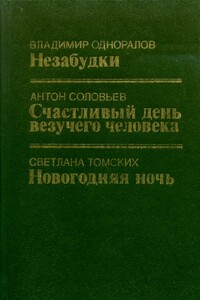В тот осенний вечер Александр Третий, зевая, просматривал бумаги, присланные ему на доклад из Петербурга. Среди них царю попалось одно прошение. Некая Чайнина просила помиловать ее осужденного сына-революционера.
Глубокое убеждение в правоте своих взглядов породило в ее сыне бесстрашие и твердость духа. Он считал недостойным просить пощады или снисхождения у того, с кем боролся во имя блага народа.
Но мать в безысходном своем отчаянии помнила только одно: приговор окончательный, до казни остались считанные часы.
Как утопающий хватается за соломинку, мать взывала к милосердию царя. Она умоляла сохранить жизнь сына.
Пухлая рука самодержца потянулась к перу и аккуратно вывела:
«В помиловании отказать».
Остальные бумаги он не стал смотреть. Мысли его вернулись в дворцовую бильярдную, где еще с полудня оставалась недоигранной партия с министром двора графом Воронцовым-Дашковым. И царь решил возобновить игру.
Но едва он оставил кресло, — распахнулась половина окна и взметнулась штора.
Александр вскрикнул.
Когда подоспели родственники и приближенные, он сидел, не сводя помертвевшего взора с черного провала окна, за которым шумел глухой гатчинский парк. Потом, как бы опомнившись, торопливо перечеркнул свою резолюцию на прошении Чайниной.
Полагая, что царю дурно, один из пришедших вызвал лейб-медика.
Ни для кого не было новостью, что императору-алкоголику с каждым днем становится все хуже и он уже не так часто, как раньше, играет на своём излюбленном тромбоне.
Этого курносого, бородатого силача, когда-то без труда гнувшего медные пятаки, неумолимо подтачивал недуг.
Тяжело ступая отечными ногами, обутыми в туфли с вышитыми на них изображениями двуглавых византийских орлов, он бродил по угрюмым покоям огромного загородного дворца.
Сюда царь в панике бежал из ненавистной ему столицы еще двенадцать лет тому назад, вскоре после гибели своего предшественника. И с тех пор неистребимый страх перед народом не переставал преследовать императора.
Сейчас ему казалось, что он едва избежал страшной опасности.
Молча жались к дверям придворные и в беспокойстве смотрели на своего повелителя. Знали, как скор он на яростный беспричинный гнев. Один лишь камердинер в белых чулках и красном фраке осмелился сказать:
— Ваше величество! Это не покушение. Это ветер. Рама была только чуть прикрыта.
— Рама? — с мрачным удивлением спросил Александр.
— Так точно, ваше величество… Простая случайность.
Самодержец обвел всех недоверчивым взглядом и нахмурился.
Что ж, если этот случай ничего общего не имеет ни с покушением, ни со знамением небесным, как он думал первоначально, то остается лишь выйти из смешного положения.
Камердинер закрыл окно. В тишине только тикали на камине старинные бронзовые часы, да слышно было как кто-то поднимается по винтовой лестнице.
Тяжело дыша, появился тучный, взлохмаченный старик в раззолоченном мундире придворного лейб-медика.
— К вашим услугам, государь. Спешил как мог.
В мутных глазах Александра, уже овладевшего собой, мелькнуло выражение злой насмешки:
— К счастью для империи, мне нужен не врачеватель, а всего-навсего дельный лакей.
И махнул рукой.
Все вышли, за исключением царского наследника.
На его бесцветном лице с выпукло-оловянными глазами было написано тупое безразличие.
Он сел в кресло и сказал:
— А я только что из столицы.
— Что же там?
Романов-младший пожал плечами:
— Особенного ничего. Стоит мерзкая погода. В либеральных кругах обычная болтовня, бессмысленные иллюзии. Воображают, что ходатайство какой-то сумасшедшей старухи за ее сына двором будет удовлетворено. Связывают, идиоты, всё это с каким-то поворотом внутренней политики…
Романов-старший встал:
— Поворот? Они хотят увидеть тень страха в моих глазах?
Он нетерпеливо побарабанил пальцами по столу, кинул угрожающий взгляд на плотно закрытое окно и наклонился над прошением Чайниной. Еще секунда-другая — и поверх перечеркнутого снова размашисто надписал:
«В помиловании отказать».
Затем, прижимая тяжелое пресс-папье к бумаге, добавил:
— Так было, так будет. Еще не родился на свете тот, кто дерзнул бы безнаказанно поколебать порядки нашей империи, веками установленные!
* * *
Поднявшись по лестнице одного из домов, он остановился на площадке и позвонил в висячий звонок. Дверь открыла широколицая женщина.
— Здравствуйте, — чуть картавя сказал человек. — У вас, мне говорили, сдается комната.
— Да, пожалуйста.
В маленьком коридоре незнакомец снял калоши и прошел за женщиной в невзрачную, с двумя окнами комнату.
Железная кровать, простой столик и прадедовский комод — вот все, что составляло меблировку этого помещения.
Наниматель подошел к окну, выглянул во двор, как бы невзначай стукнул в стену и еще раз скользнул быстрым и острым взглядом по углам комнаты:
— Отлично. Все хорошо. Мне нравится.
Довольная такой оценкой, хозяйка спросила:
— А вы одинокий?
— Совершенно.
— Вам понадобится самовар?
— Гм… Если вас не затруднит.
— О, мне совсем не трудно, — ответила хозяйка, украдкой разглядывая будущего своего жильца. Он был молод, хотя большая, с красивым лбом, голова его уже лысела. Он носил рыжевато-русую бородку, а глаза его светились умом и жизнерадостностью. Его наружность несколько смутила хозяйку. Она раздумывала: если это студент, то, вероятно, будет шум, веселые сборища; для нее же имеют значение тишина и спокойствие.