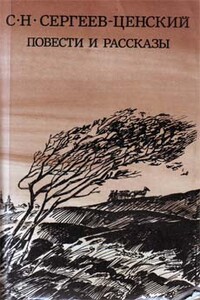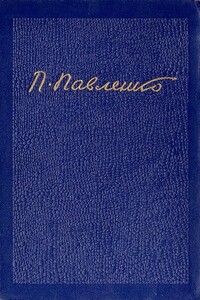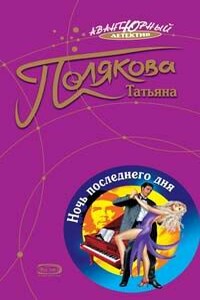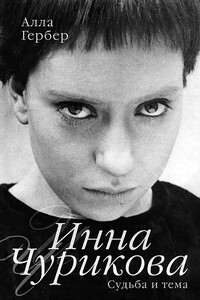Пожилая секретарша, которую я принял за руководителя кафедры, сказала мне, что в Москву я поторопился, что мне надо ждать еще дня два, пока моя работа будет окончательно рассмотрена. Она дала мне свой номер телефона:
– Позвоните в конце недели.
Шестизначный номер она произнесла так же быстро, как у нас в городе произносят четырехзначные. Я не запомнил.
– Мне проще прийти к вам, – сказал я. – Я ведь только за этим и приехал.
Секретарша пожала плечами.
От института до станции метро можно доехать автобусом или троллейбусом, но я еще не доверял автобусам и троллейбусам многочисленных московских маршрутов. Я пошел пешком. В метро из автомата позвонил приятелю в подмосковный городок. И хотя года три мы с ним не встречались, он сразу узнал мой голос. Это обрадовало меня, показалось хорошим предзнаменованием.
– Ничего не спрашиваю, – кричал приятель, – приедешь – расскажешь. Не забыл, как ехать? Платформа «Сорок восьмой километр». Ждем тебя сегодня, Обязательно сегодня.
В конец концов все складывалось хорошо. Работа моя имела солидные рекомендации, и даже то, что я приехал на два дня раньше, получалось кстати: жена приятеля – именинница.
Часа два я бродил по магазинам – искал подарок – и уж совсем было собрался ехать, но решил сменить рубашку и галстук.
Остановился я у дальнего родственника, заходить к нему в большую коммунальную квартиру мне лишний раз не хотелось, но делать было нечего. Ключ в замочную скважину, чтобы не привлекать внимания соседей, я вставил осторожно, но, словно меня караулили, в коридоре тотчас открылась дверь. Я аккуратно вытер ноги о половичок, независимо прошагал к своей комнате.
– Телеграмма вам, – сказали сзади меня. – В ручке.
И когда я поднес к глазам листок белой бумаги, добавили:
– Плохая.
А я еще и ещё раз, как чужие, не мне адресованные, пробегал глазами слова: «Вчера ночью умер отец. Немедленно выезжайте». И подпись: «Ася Александровна».
Потом я лихорадочно звонил на аэродром, ехал в метро, ловил на площади Революции такси, пробивался на аэровокзале сквозь толпу к окошечку диспетчера, протягивал кассиру через чьи-то спины и головы свою телеграмму и наконец вылетел вечерним самолетом. Место мне досталось у окошка, я смотрел на освещенную часть крыла, на искры, отрывающиеся от моторов, и старался не думать об отце. Я знал: прилечу к двенадцати, к часу ночи подъеду к его дому, поднимусь на третий этаж – и тут-то это и произойдет. То, ради чего Ася Александровна, жена отца, которую я не любил и которую до недавнего времени мало знал, вызывала меня из Москвы.
Около полуночи нам предложили привязаться к креслам. Как всегда во время спуска, пришло ощущение полета, крыло ненадежно повалилось набок, огни города стали в уровень– с окном, к реву моторов прибавился свист. Потом, оглушенный быстрым переходом к земной тишине, со странным недоверием прислушиваясь к многочисленным живым звукам аэродрома, я медленно шел со всеми по бетонным плитам, покорно ожидал автокар с прицепами, которым нас должны были перевезти от самолета к вокзалу, зачем-то долго стоял у витрины запертого киоска «Союзпечати»…
Было около двух ночи, когда я вышел из аэропортовского автобуса у дома отца. На третьем этаже, в окнах его комнаты, горел свет. Это был с детства знакомый мне сонный свет настольной лампы с толстым зеленым абажуром – отец зажигал ее, когда в доме укладывались спать.
Я взбежал наверх, потянул к себе дверь – почему-то думал, что она будет отворена, – и позвонил.
Где-то в глубине комнаты шаркнули, и будничный, вселивший секундную надежду голос Аси Александровны спросил:.
– Кто там?
Я назвал себя, и дверь распахнулась стремительно, излишне стремительно – я боялся, что она так и распахнется специально для меня, – Ася Александровна всплеснула руками, ткнулась мне в плечо, тотчас же отстранилась, всхлипнула и тут же быстро вытерла сухие, внимательные, испуганные глаза. Она увела меня на кухню и там, сбиваясь с необычного, не объединившего, нас «ты» на «вы», глядя на меня все теми же сухими, внимательными, испытывающими глазами, стала рассказывать, как это произошло. Она всегда воевала за отца против меня, против соседей, против врачей, против моей мамы, с которой отец развелся лет двадцать пять назад. Сейчас она воевала против врача «скорой помощи», который поздно приехал и все сделал не так. Я думал о том, что мне вот-вот нужно войти в комнату, освещенную зеленой лампой, и потому неприязненно удивлялся ее сухим глазам, ее памяти на детали, которые казались мне сейчас оскорбительно несущественными, ее мнительной ненависти к врачу «скорой помощи», который ничего не смог или не сумел сделать. «Это он убил отца!» – говорила она и требовала – не прямо, но выходило это само собой, – чтобы я, сын, мужчина, сделал то, что не под силу ей – наказал бы, добился, чтобы наказали этого врача «скорой помощи». И все это перемежала воспоминаниями: в последние дни у отца было много гостей – «чувствовали, приходили прощаться». И я, словно чувствовал, пришел попрощаться перед отъездом в Москву, хотя это и не в моем обычае.
Потом она повела меня в комнату, которая давно стала мне чужой – еще с тех пор, как с появлением Аси Александровны на ее холостяцкую, привычную мне чистоту как бы наслоились настенные коврики, вышивки, салфеточки и где сейчас на раздвинутом обеденном столе лежало что-то неподвижное и страшное, накрытое белой простыней.