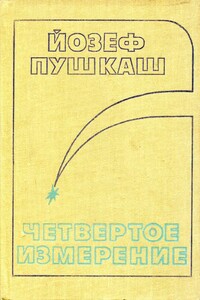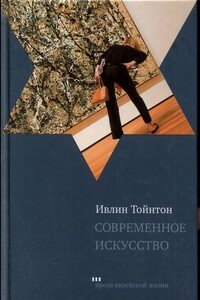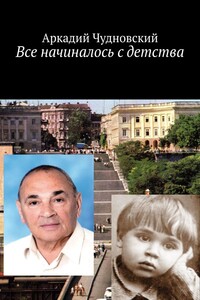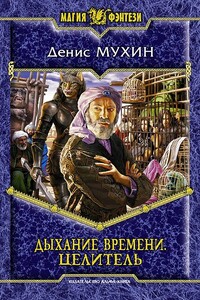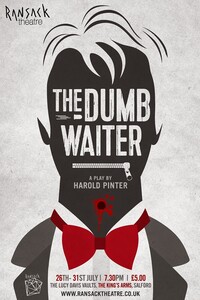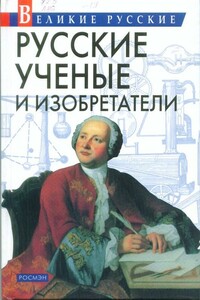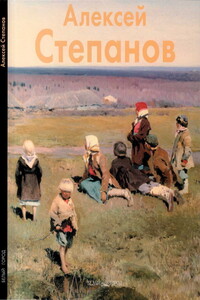Утром невероятная новость подтвердилась.
Баландер, подавая ему миску, заглянул в окошечко кормушки, подмигнул и, блеснув из коридорного полумрака железной фиксой, быстро проговорил тихим свистящим шепотом:
— Все, Живодер! Живешь! Отмазали тебя дружки твои чекисты…
Но Казимир Бляхъ, истерзанный ночной бессонницей, в первый миг почти и не обрадовался тому, что новость подтвердилась. Наоборот, он испытал вдруг неожиданный приступ злого раздражения оттого, что снова кто-то посторонний по-хозяйски распорядился его жизнью и смертью, решил за него, не спросив и не посоветовавшись, как будто он какая-нибудь кукла. Да еще, произнося эти слова и подавая миску, баландер окунул в баланду свой большой и грязный палец с черным полумесяцем ногтя. Сразу почему-то вспомнилась их профессиональная поговорка: «У чекиста должны быть чистые руки…»
Казимир Бляхъ отошел в угол камеры, со стуком поставил миску на тумбочку, тупо стал рыться в тряпье на нарах, разыскивая вещицу, которой забыл название, но помнил, что она теперь нужна, что именно она теперь очень дорога… Нащупал в куче рванья, вытащил на свет и принялся разглядывать с таким ощущением, словно видит предмет этот впервые. Это была ложка.
Узник устало усмехнулся. Он чувствовал некоторую растерянность, как человек, нежданно вернувшийся из долгого-долгого путешествия за тот край света, откуда нет возврата, и теперь с трудом узнавал обычные предметы. Приходилось напрягать ороговевшую, косную память, чтобы угадать, для чего предназначена та или иная вещь, вспомнить хотя бы — как звучит ее название. Остановившимся взглядом смотрел он на эту тусклую ложку, потом опустил ее в баланду и снова застыл. Казимир Бляхъ отвык спокойно и неторопливо думать о насущных житейских мелочах. За эти дни непрерывного ожидания смерти мысль его как-то оцепенела, потрясенная открывшимися вдруг нечеловеческими пространствами и перспективами, стала рассеянной и созерцательной. И даже в дневничке, который завел он когда-то исключительно затем, чтобы записывать туда имена, цифры и способ уничтожения врагов, в последнее время все чаще и чаще вместо сухих цифр появлялись записи лирические и отвлеченные. Он знал, что рано или поздно его бумаги попадут к потомкам, ибо на личном деле каждого смертника новая власть, которой преданно служил Казимир Бляхъ, ставила самонадеянный гриф: «хранить вечно». Нужно было позаботиться о посмертном добром имени. Поэтому вчера вечером он записал: «В ледяных просторах Вселенной было мне хорошо бродить, одинокому». Потомки подумают: «Он был бледен, но спокоен перед лицом смерти. Идея его была бескорыстна……»
Как всякий настоящий садист, Казимир Бляхъ страдал поэтической сентиментальностью и по-мещански серьезно относился к мнению окружающих людей. Он любил, чтоб все было обставлено красиво. Когда-то в юности он писал целые романтические поэмы. Он и в органы пошел по вдохновению и по зову сердца. Он искал и любил в смерти эстетическую сторону и наблюдая за муками своих жертв…… Но, к сожалению, время романтиков заканчивалось, и теперь сюда толпами валило обыкновенное серое быдло. Уже многие его товарищи из старой гвардии были подвергнуты незаконным репрессиям. А нынче и сам Казимир Бляхъ, выражаясь романтически, заглянул в отверстую могилу (в свою личную могилу!) и почувствовал, как ровный сквознячок, веющий оттуда, тихо шевелит волосы на голове.
Но ведь на сегодня все отменяется!.. Конечно, свежевырытая могила не терпит пустоты, но эта пустота, вероятно, всосала уже кого-то другого. Рок, не чурающийся мрачной шутки, спихнул туда какого-нибудь нерасторопного постороннего зеваку, случившегося рядом, а яму наскоро забросали песком и притоптали сапогами.
Казимир Бляхъ обвел взглядом тесную, сумрачную камеру, последнее свое, как он привык думать, прибежище на этой земле, откуда ему нежданно-негаданно выпал шанс вырваться на волю. Чугунная раковина в углу, кованая дверь, голая лампочка под слишком высоким для такого узкого пространства потолком… Он ощутил вдруг в глубине души движение какого-то незнакомого грустного чувства, едва ли не печали расставания с этими сырыми бетонными стенами, которые он, оказывается, уже успел обжить и с которыми, кто бы мог подумать, свыкся за эти долгие дни.
Но оказывается, точно так же незаметно привык он и к мысли о неизбежной смерти, потому что неожиданно для него самого при известии о помиловании коротко взыграла в сердце досада на то, что снова приходится жить, что снова до неопределенных времен отложено окончательное объяснение.
Да, да, да, Казимир Бляхъ, по прозвищу Живодер, особым совещанием приговоренный к расстрелу, все эти дни подспудно готовился к смерти и к какому-то, как он сам определил для себя, окончательному объяснению.
И каким-то образом именно это предстоящее окончательное объяснение пугало и тревожило его в последние дни гораздо больше, нежели сама смерть, которая казалась теперь всего лишь пустой формальностью, всего лишь необходимой дежурной процедурой перед чем-то неотвратимым, превышающим всякое человеческое представление……
По ночам было особенно худо. По ночам ему мерещилось, что сама вечность подступала к нему и, неподвижно склоняясь над его нарами, ощупывала лицо своими ледяными, слепыми пальцами, узнавала… Это была не та игрушечная уютная вечность, в которой хранятся какие-то личные дела и канцелярские документы, это была настоящая, жуткая, не вмещающаяся в человеческие мозги Вечность. Она гипнотизировала, подавляла, завораживала. Перед ее безжалостным величием вся предыдущая тридцатипятилетняя жизнь Казимира Бляха казалась пустой, ничтожной, пошлой, и не находилось в ней ничего, что годилось бы для предъявления в свое оправдание при окончательном объяснении.