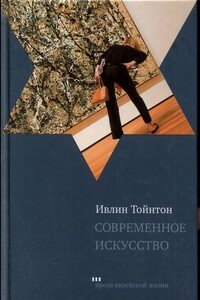Посвящается ГДТ
1
— Мисс Прокофф, — говорят они: опасаются оплошать — назвать ее не так, как она подписывает свои картины. — Мисс Прокофф, не скажете ли, что… не скажете ли, когда?..
Она отвечает: почему бы и нет, хотя такие вопросы задают ей в сотый раз. В этот апрельский день она два часа кряду уточняла даты, материалы, технику, все вплоть до марки малярной краски, которой он писал в средний свой период. Ответы они старательно заносят в синие блокноты на проволочках с гербом Колумбийского университета на обложке.
Двадцать лет назад они ходили бы в пушистых свитерках из ангорки. Теперь у них по несколько серег в каждом ухе, на них кожаные косухи в заклепках — подручные палача, да и только, и это при той же блондинистой опрятности, тех же ослепительной чистоты понятиях, которые даются лишь детством, проведенным в холе и неге. Белла, тертый калач, знает: сейчас они собираются с духом, готовятся засыпать ее вопросами совсем иного толка — личными, рискованными, чтобы потом пересказывать ответы друзьям.
— Потрясающее, должно быть, ощущение — писать в его мастерской, — говорит более предприимчивая, подавшись поближе к ней.
Белла пропускает ее слова мимо ушей: пусть думают, что она глуховата.
— А может, и устрашающее, — подсказывает другая.
Белла поворачивается к ней, любуется ее бело-розовой кожей. В Бруклине никто не мог похвастаться такой кожей: то ли из-за того, что ели лишь мучное, то ли из-за фабричной копоти. Годы, долгие годы, что только она ни делала: и накладывала маски из овсяных хлопьев, и мазалась кремом, за которым тайком бегала к старушенции, варганившей его у себя на кухне, сколько хлопот, стараний в надежде на преображение, и все — без толку. Одним хороша старость: быть уродиной наконец-то в порядке вещей.
Первая девчушка предпринимает еще одну попытку:
— Вы не чувствовали порой, что он вас пугает? Я хочу сказать… подавляет?
— Нет.
Девчушка смотрит на нее во все глаза, а она украдкой шевелит лежащей на коленях рукой: вдруг боль ослабеет.
— Ведь вы оба художники, наверное, это не просто? Как вы думаете, ему не казалось, что вы с ним соперничаете?
— Нет.
Девчушка горестно смеется.
— Знать бы, какие вопросы вам задавать, мисс Прокофф, чтобы вы поговорили с нами.
— Если бы он меня пугал, я бы за него не вышла. Если бы я с ним соперничала, он бы на мне не женился. Мы бы расстались.
— Однако в те годы мир искусства, по общему мнению, был таким патриархальным: никто не принимал художниц всерьез.
— Он принимал меня всерьез, — говорит она.
Разумеется, неправда: ему нужна была нянька, помощница, как они и считают, но она поддерживала эту ложь слишком долго, чтобы вот так вот взять и открыть душу этим пигалицам. Не может она им объяснить, что ее жизнь отравили не патриархальные взгляды, не женская робость, а производители «Будвайзера». Хотя рассказы о его пьянстве — часть легенды, и им нет конца, до сих пор никто не отважился спросить ее, каково это — жить с пьяницей?
— Что вы знаете о Федеральном проекте поддержки искусства[1]? — спрашивает она, рассказ о Проекте наверняка потрафит их желанию везде и всюду видеть несправедливость, а тут столько чисток, расследований, авангардистов вынуждали переходить на фигуративную живопись, женщин направляли грунтовать стены, чтобы мужчинам было на чем писать фрески. Они снова опускают глаза, супят брови и еще полчаса записывают слово в слово все, что она говорит. Под конец она рассказывает, как впервые увидела его картины, затем объявляет, что им пора уходить.
Послушно, точно дети, они разом закрывают блокноты. В благодарность за интервью они отвезут ее в небольшую галерею здесь же, на Айленде, — у нее там вернисаж. Та из двух девчушек, что побойчее, племянница Моники, владелицы галереи; это Моника попросила Беллу принять их: они хотели поговорить о своих магистерских.
Они встают, смотрят выжидательно.
— Вам придется мне помочь, — без обиняков объявляет она. — У меня сильный артрит, сама я подняться не могу.
— У моей матери тоже артрит, — говорит племянница Моники и откладывает свой рюкзачок.
— У всех матерей артрит.
Племянница берет Беллу за руку, резко дергает, — хочет поднять ее разом, — Белла падает обратно в кресло, девчушка крякает.
— Вам не хватает сноровки.
— Извините.
— Попробуйте вы, — командует Белла, и другая, поднатужившись, вздымает Беллу на ноги.
Теперь обе, исподтишка переглядываясь, топчутся около нее, но к машине она идет, отвергнув их помощь, сама. До чего же мерзко быть таким вот мертвым грузом, который надо поднимать, опускать и всюду сопровождать. Никто не знает, до какого маразма она дошла в надежде вылечиться: курорт в Альпах, где она с утра до вечера моталась от холодных источников к горячим; клиника на Верхнем Ист-сайде, где ей неделю за неделей вкалывали в вены жидкое золото. Предел унижения, верх разврата, но если б руки снова обрели подвижность, оно бы того стоило. В уме она не перестает писать, лежит ночами без сна, передвигает по прямоугольнику, который видится ей в темноте, фигуры туда-сюда. А что проку — с таким же успехом она могла бы и ослепнуть.
Они доходят до машины, ее сажают сзади, чтобы она могла поднять ногу повыше. По радио надрывается какой-то поп-певец, и племянница Моники, засмущавшись, спешит его выключить.