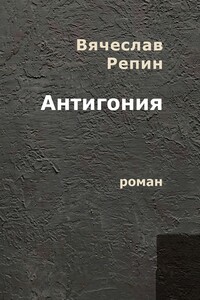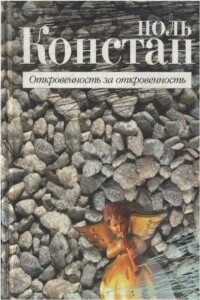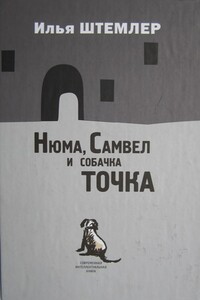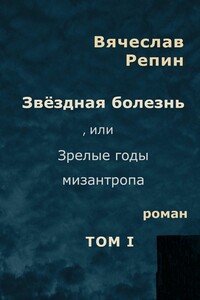Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано…
С таких многообещающих нот началось мое знакомство с Вильсоном Гринфилдом, известным в Америке литературным критиком. Годы назад В. Гринфилд разыскал меня в Париже, чтобы поговорить о Джоне Хэддле, моем покойном друге. Дома, в Бостоне, американец работал над биографией своего прославившегося соотечественника и не мог обойтись без личных свидетельств о жизни и творчестве Хэддла. Это и побудило критика разыскивать сегодня его вчерашних друзей и знакомых.
Биограф задумал почти невозможное: он вознамерился написать правдивый текст, который отражал бы жизнь человека во всей ее полноте, со всеми ее противоречиями, без льстивых конформистских упрощений, и при этом не вызвал бы обид у родни писателя, которой трудно бывает угодить, не обманул бы ожиданий почитателей, единомышленников всех мастей. Они-то первыми поддерживали проект биографа, всячески поощряли его.
По телефону Гринфилд уверял меня, что добросовестность не позволяет ему обойти стороной некоторые «деликатные факты». Раз уж упор в монографии делается, мол, на сравнительный анализ художественного вымысла автора с реальными фактами из его жизни, излагать предстоит «всё как есть». Именно в этом я и мог ему помочь, за этим он ко мне и обратился.
Подход не отличался оригинальностью, но наверное был всё же оптимальным. О сложных вещах лучше говорить просто…
Своей просьбой американец ставил меня в затруднительное положение. На первый взгляд обращение выглядело безобидным и вроде бы не подразумевало под собой ничего из рук вон выходящего. Однако мне пришлось задуматься о старом. Мои отношения с Джоном Хэддлом никогда не были простыми. Между нами часто возникали разногласия, о которых трудно было бы рассказывать чужому человеку. За годы случилось много такого, что оставалось для меня дилеммой и по сей день. Должен ли я делиться подробностями многолетних отношений с другом? Нужно ли это делать вообще?
Знакомство с Гринфилдом выглядело каким-то нелепым, шапочным. Единственной гарантией американца, на которую он и уповал, была Анна Хэддл, вдова Джона Хэддла. Гринфилд не переставал на нее ссылаться. Уже поэтому я не мог отнестись к просьбе без внимания. Но как-то не верилось в искренность самой затеи. Деловая хватка критика, его полная уверенность, что одна его фамилия и рекомендации — залог успеха, наивная убежденность, говорившая о некоторой подслеповатости, что бывшие друзья Джона должны принимать на ура возможность рассказать о нем что-нибудь невероятное или просто попозировать рядом с памятником знаменитого друга, установленным на его могиле, — именно так это и выглядело со стороны, — всё это не могло не вызывать вопросов.
Но поначалу я всё же решил не поддаваться предубеждениям. В конце концов, выход биографии мог привнести некоторую ясность. Это могло приостановить кривотолки вокруг имени Джона, а возможно даже поспособствовать восстановлению правды, говорил я себе, со дня смерти Хэддла изрядно поруганной. К лицу ли отсиживаться в стороне? Время ли заниматься пустым критиканством?
Разговор был перенесен ко мне домой. Объяснения вышли долгими, обстоятельными и, в сущности, ничего не добавляли к уже сказанному. Как только Гринфилд переступил порог моей квартиры, мы почему-то сразу перешли на французский. Языком Рабле и Флобера, столь почитаемых мною в те годы, американец владел лучше меня. Я даже испытывал некоторую скованность. Но мы говорили действительно на разных языках, по-настоящему я это понял уже позднее.
— Если откровенно, сложность для меня в другом. Зачем ломать комедию? Да нет, я прекрасно Джона понимаю. Понимаю, чего он добивался… Только вы тоже должны понять. В Америке мы очень ценим… как бы это сказать… обратную связь. На этом построена наша культура. По природе своей американцы люди рациональные. Ясность нам нужна, как воздух. Мы не можем без развязки. С этим ничего не поделаешь. А Джон под конец своим маскарадом, своим лавированием… ― Гринфилд развел руками и чуть было не пролил на себя стакан с водой, который только что попросил принести ему. ― Когда человек впитывает с пеленок этот душок, этот менталитет, когда чувство обратной связи передается ему с молоком матери, он впадает в экстаз… поверьте, я не преувеличиваю… стоит ему оказаться свидетелем разоблачения. Стоит вывести перед ним на чистую воду какого-нибудь шарлатана, махинатора. — Он сделал глоток воды и проиллюстрировал свою мысль: — Ну допустим, это происходит в зале суда, представьте себе такую картину… Это и есть обратная связь. Джон же плевать хотел на предрассудки. Вот он всех и довел. Отсюда и непонимание, которое его окружало…
Розоволицый, пышущий здоровьем и благополучием, Гринфилд уютно поерзывал на моем диванчике, прихлебывал минеральную воду, поводил стаканом из стороны в сторону, а заодно краем глаза изучал обстановку моей парижской квартиры — этакий следователь, нагрянувший в гости к подозреваемому.