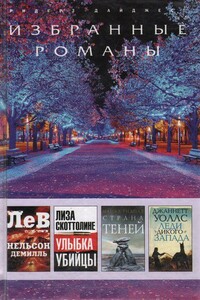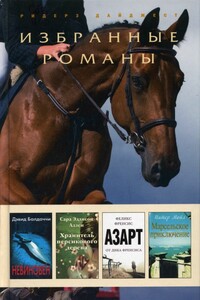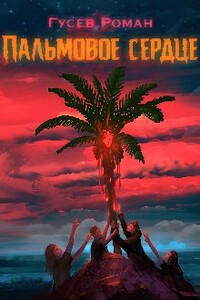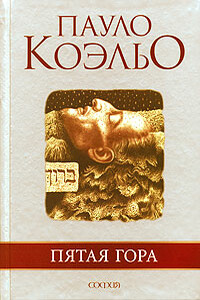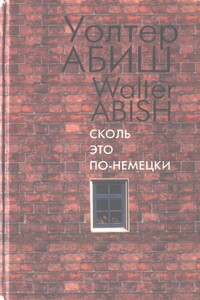Большую часть своего пятьдесят третьего дня рождения он провел точно так же, как и большинство прочих дней, — выслушивая людей, которые жаловались на своих матерей. Матерей невнимательных, матерей жестоких, сексуально соблазнительных матерей. Мертвых матерей, которые продолжали жить в сознании своих детей. Живых матерей, которых детям хотелось убить. Он выслушал мистера Бишопа, потом мисс Леви, потом несчастного Роджера Циммермана, который делил квартиру в Верхнем Уэст-Сайде с властной, сварливой ипохондричкой, посвятившей себя уничтожению любых посягательств сына на самостоятельность. Каждый из этих людей потратил отведенный ему час на излияние горьких сарказмов в адрес женщины, которая породила его на свет.
И все-таки день рождения самым непосредственным образом напомнил ему о том, что он смертен. Его отец умер вскоре после своего пятидесятитрехлетия, надорвав сердце годами непрерывного курения и стрессов. Факт этот, как он понимал, затаился, коварно и злобно, в его подсознании. И поэтому, пока малоприятный Роджер Циммерман тратил на жалобное нытье минуты, оставшиеся от последнего за этот день сеанса, он без особого внимания прислушивался к тихому жужжанию звонка, кнопка которого находилась в приемной.
Звонок обычно оповещал о появлении пациента. Не изменив позы, он взглянул в ежедневник, лежавший на столике рядом с часами. Никакой записи о встрече в шесть вечера там не было. Часы показывали без двенадцати минут шесть. Роджер Циммерман на кушетке словно оцепенел.
— Я думал, что я на сегодня последний.
Он не ответил.
— Никто еще не приходил после меня, ни разу.
Ответа опять не последовало.
— Мне неприятна мысль, что кто-то приходит после меня, — решительно заявил Циммерман. — Я хочу быть последним.
— Постарайтесь завтра прийти сюда с этой мыслью, — сказал он. — С нее мы и начнем. Боюсь, на сегодня ваше время истекло.
Циммерман остался лежать.
— Завтра? Поправьте меня, если я ошибаюсь, но завтра последний день перед вашим дурацким августовским отпуском, одним и тем же каждый год. Так чего ради я завтра буду лезть из кожи вон?
Он промолчал. Циммерман громко фыркнул и рывком сбросил ноги с кушетки.
— Не нравится мне, когда что-то меняется, — резко сообщил он. — Совсем не нравится.
Вставая, он бросил на доктора быстрый, острый взгляд.
— Все и всегда должно происходить одинаково. Я вхожу, ложусь, начинаю рассказывать. Последний пациент каждого дня. Так оно должно быть. — Циммерман развернулся, решительно пересек кабинет и, не оглянувшись на доктора, вышел.
Он просидел в кресле еще с минуту, прислушиваясь к стихающим звукам сердитой поступи пациента. Потом встал и направился ко второй двери кабинета, выходившей в его скромную приемную. Редкостная планировка комнаты, служившей ему кабинетом, была, пожалуй, единственной причиной, по которой он после окончания ординатуры снял эту квартиру, — как и причиной того, что он провел в ней больше четверти века.
В кабинете было три двери: одна вела в приемную, вторая выходила прямо в коридор многоквартирного дома, а через третью можно было попасть на кухню, в жилые комнаты и в спальню. Кабинет был своего рода личным островом с выходами в другие миры. Он нередко думал о своем кабинете как о преисподней, о мостике между реальностями. Ему это нравилось.
Он открыл дверь в приемную, огляделся. Приемная была пуста.
Это привело его в замешательство. «Хэлло?» — произнес он, хотя здесь явно никого не было. Он поправил на носу очки в тонкой металлической оправе. «Занятно», — сказал он. И только тут заметил на кресле конверт.
Подойдя к креслу, он взял конверт. На лицевой стороне было напечатано его имя. Он поколебался, пытаясь понять, кто из пациентов мог оставить ему послание. Затем надорвал конверт и извлек два густо заполненных печатными строчками листка. Он прочитал только первые две строчки:
Поздравляю с пятидесятитрехлетием, доктор. Добро пожаловать в первый день Вашей смерти.
Он прерывисто вздохнул. От спертого воздуха закружилась голова, и он прислонился к стене, чтобы устоять на ногах.
Доктор Фредерик Старкс, человек, профессионально склонный к самоанализу, жил в одиночестве, преследуемый воспоминаниями чужих ему людей.
Он подошел к антикварному мраморному столику, пятнадцать лет назад подаренному женой. С ее смерти минуло три года, но, когда он присаживался за этот столик, ему все еще казалось, будто он слышит ее голос. Доктор развернул письмо, положил его перед собой на бювар. Ему вдруг пришло в голову, что уже лет десять его ничто не пугало. В последний раз он испугался диагноза, поставленного онкологом его жене.
Рики Старкс — он редко признавался, что это неформальное сокращение нравится ему куда больше, нежели звучное «Фредерик», — был человеком методичным, приверженцем порядка во всем. Построение жизни на разумных основаниях, считал он, — единственный способ, позволяющий придать хоть какую-то осмысленность хаосу, который обрушивали на него пациенты.
Он был худощав, ростом чуть выше среднего, форму он сохранял благодаря ежедневным послеполуденным прогулкам и непоколебимому отказу потворствовать своей любви к сладостям. Курить он бросил и лишь изредка позволял себе бокал вина. Рики чувствовал себя куда моложе своих лет, но остро сознавал при этом, что год, в который он вступает, отец его пережить не смог. И все же, подумал Рики, умереть я еще не готов. И он начал неторопливо читать письмо.