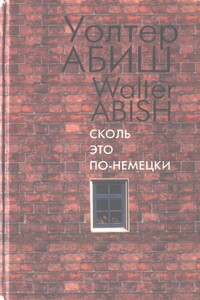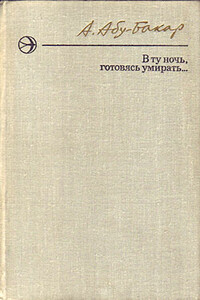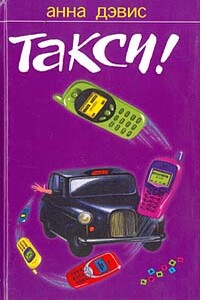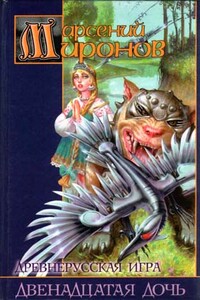МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ. ПРЕДИСЛОВИЕ[1]
На протяжении 1960-х и начала 1970-х годов американская беллетристика представлялась исключительно богатой волнующими экспериментами, и если вас интересовало, как вписываются современные роман или рассказ в непрерывающийся, живой и серьезный поиск, то именно к ней, скорее всего, вам и стоило обратиться. Существенные изменения карта хорошего письма претерпела, похоже, только позднее. Живая и яркая беллетристика — то есть беллетристика, которая не просто успокаивает вас, пересказывая в очередной раз привычным образом привычные рассказы, а ведет к чему-то новому, как в смысле опыта, так и в смысле формы, — пришла к нам тогда из существенно более широкого круга стран: из Европы, Японии, Южной Америки и даже из самой Великобритании. На американской же сцене устоялось своего рода общепринятое экспериментаторство, а героическая его пора явно пошла на убыль. Хотя, конечно же, радикальное новаторство сошло на нет не совсем. В конце концов, остался же Уолтер Абиш — на мой взгляд, самый значительный писатель, появившийся в Соединенных Штатах за последние десять лет, чьи серьезнейшие поиски, без сомнения, продолжаются и набирают силу.
Вполне возможно, впрочем, что вообще не стоит относить Абиша к американским писателям. Родившись в еврейской семье в Австрии, он возмужал в Шанхае, когда вокруг распадалась старая социальная система. Его международные и многоязычные «университеты», которые во многом сформировали его манеру письма, на этом не закончились; он жил в Тель-Авиве и прошел подготовку в Израильской армии, но сейчас в основном живет и работает в Нью-Йорке. Именно в Америке и появлялись до сих пор все его книги: «Азбучная Африка», «Мысли сходятся», «В совершенном будущем» и «Сколь это по-немецки» — именно здесь он завоевал уже прочную и значительную репутацию у критики. Роман «Сколь это по-немецки» был удостоен в 1980 году премии ПЕН/Фолкнера, ныне единственной серьезной американской премии в области художественной литературы. Несомненна важность Америки для его прозы, именно здесь, как он однажды обмолвился в интервью, «я знаю, что привычно». Весьма выразительная фраза, поскольку привычность и непривычность — то, как рассказы и романы приучают и приручают нас, вызывая аллюзию стоящей за реальностью сущности, впечатление кроющейся под поверхностью глубины, или ставят под сомнение этот процесс, — всегда остается у него спорным моментом. Сочинениям Абиша присуще нечто скептическое или пародийное, побуждающее его создавать воображаемые страны из тех же языковых материалов, которыми мы пользуемся для изображения наших, внешне вполне реальных. Америка — в частности, Нью-Йорк и Калифорния — служит ему для этого как нельзя лучше. Но в том же интервью он добавляет: «Я стремлюсь установить или восстановить привычное в чужеродном», выбивая у нас почву из-под ног. И для этой цели другие страны, в особенности Германия и Африка, подошли ничуть не хуже, а может, и лучше.
Итак, Абиш работает в Америке, но при этом не воспринимается нами как обычный американский писатель — и в этом во многом его сила. Его книги часто связывали с экспериментальным художественным направлением, которое было окрещено довольно расплывчатым термином «постмодернизм» и воспринималось как в первую очередь американское. Сама эта идея, как мне кажется, способна завести в тупик, но в любом случае подобный ярлык разве что чуть приближает нас к писателю. Возможно, он и разделяет с этим направлением, каким оно проявилось в литературе, его наиболее характерный признак — отказ назвать так называемую реальность реальной, ощущение, что язык, который удостоверяет то или иное в качестве истории, географии или биографии, — язык, изобретенный человеком. Определенные черты, определенная озабоченность его творчества подтверждают, что Америка — наиболее подходящая для него среда, и связывают его произведения с творениями других новейших американских художников, прежде всего нью-йоркских, прежде всего живописцев, скульпторов, кинематографистов или поэтов языковой школы вроде Джона Эшбери. Его рассказы проникнуты тем неуютным духом современного беспокойства, тем ощущением распада, которые так свойственны современному американскому искусству; архитекторы и художественные объекты, кинематографисты и фотографии, как и близкие им проблемы окружения и пространственного решения, съемки, фиксации и дистанцирования, — все они играют в его текстах важную роль. Но те же заботы царят и в Тель-Авиве, или в Вене, или в Германии. Несовершенный, лишенный центра мир, о котором он пишет, простирается повсюду; и Абиш ничуть не дальше от таких австрийских писателей, как замечательный Петер Хандке (или, если на то пошло, австрийских философов вроде Витгенштейна), чем от зачастую не знающих в своем кипении удержу вязких писаний американцев вроде Томаса Пинчона или Джона Барта, по отношению к которым он кажется скорее экономичным и проницательным наследником, а не современником.
На самом деле, хотя и кажется вполне уместным назвать Абиша экспериментальным писателем, в его произведениях присутствуют точность и ясность, к которым нас никоим образом не приучило ставшее в последние годы почти что общепринятым ориентированное на случайность, свободное по стилю экспериментаторство. Он не просто использует необычные формы или создает романы-сюрпризы, ему присуще глубокое осознание собственных возможностей и цели. Пока у него не так много (и при этом не слишком толстых) книг; многое — собранное в этом томике и в «Мысли сходятся» — написано им в короткой форме, единственная «толстая» книга, «Сколь это по-немецки», на самом деле выросла из входящего в настоящий сборник рассказа «Английский парк». Цель же Абиша диктуется его принципиальным интересом к отношениям между языком (или, говоря высокопарнее, семиотикой) и повествованием. Тем самым то, что он делает, оказалось весьма созвучно разворачивающейся революции в современной критической и, шире, интеллектуальной мысли, которая хочет на настоящем этапе прежде всего разобраться с проблемой языка. Поднятая в дальнейшем этим процессом волна тяжелой, если не сокрушительной, критики неявным образом принизила писателя в его ипостаси серьезного источника творчества. Другое, куда лучшее следствие: писатель превратился, по сути, в исследователя, вместо нас бьющегося над проблемой, как мы составляем значимые послания, как создаем чувство подлинного или, как мог бы сказать Абиш, совершенного. Довольно уклончивым образом Абиш соприкоснулся с подобного рода расследованием, что делает его творчество интересным в чисто интеллектуальном плане. К счастью, оно этим отнюдь не исчерпывается; в основе произведений писателя лежит проницательный ум и ясность характера, которые ставят его выше пустопорожней болтовни. Его письму присущи прозрачность и определенность цели, которую мы связываем с лучшими из ему подобных: Беккетом, Борхесом или Бартельмом; ну что ж, теперь пришла очередь А.