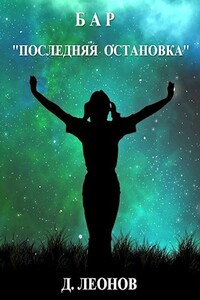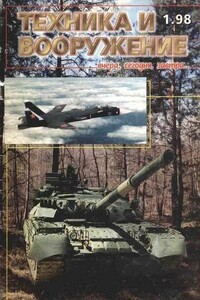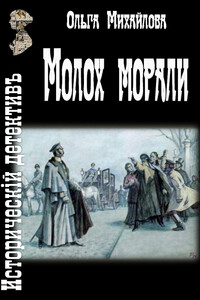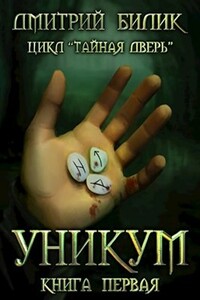Глава 1,
в которой Мих видит самую настоящую дворянскую магию
— Поединок! Поединок!
Мимо почти пронеслась ватага из незнакомых мальчишек. Один из них, белобрысый с перебитым на бок носом, на секунду задержался, уже даже за камнем нагнулся, но Мих прорычал ему в спину.
— Лучше не надо, паря.
— Митька, да брось ты, не видишь орчук. Руки о такого только марать.
Белобрысый трусливо обернулся и умчался прочь. Много их таких бегает, всем полукровка как бельмо на глазу, каждый и норовит поддеть, унизить или просто осмеяться. Нечто мало жизнь Миха била-кручинила? Орчук поднялся на ноги, отряхнул широкие, но короткие штаны, поковырял мостовую босым пальцем и покрутил головой.
Солнца за тучами не видно, те аж будто над крышами висят, но чутьем своим звериным, не несколько детских лет родичами-кочевниками выпестованным, знал орчук, что время к закату близится. Что то значит? Не будет больше сегодня работы. Не станет кричать половой его по мелкому поручению, не прикажет купец товар какой к дому снести, не попросит кузнец лошадь для перековки подержать. Поесть, значитца, надо, да спать идти.
Мих отер пот с широкого крепкого лба. Ох, духота-то какая, разродиться бы небу дождем, а то мочи никакой нет. Пучится тучами, пучится весь день, да толку никакого. Ему-то еще ладно, привыкший он к жаре, а вот барыню одну давеча сморило. Прям тут несчастная душа упала, кабы не орчук, голову расшибла. Милая такая, сахарная, кожа белая, Мих сроду даже рядом с такими не стоял. А она даже «благодарствую» и к сопровождающему вспорхнула. Эх, как бы человеком был, так бы и приударил.
Орчук оглядел взглядом пустеющую улицу. Гордо высились кирпичные молчаливые дома, пропахшие с парадных духами да одеколонами всякими, а с черного входа смердящие нечистотами и помоями, что прислуга прямо на ступени льет. Лениво переругивался биржевой извозчик с обычным ванькой, вставшим по ошибке на его месте, но понимал Мих, не дойдет до драки, слишком уж жарко, чтобы кулаками махать. Возвращались со службы в пыльных штиблетах и мундирах не по размеру канцеляристы низших чинов, для которых обращение «Ваше благородие» и то за счастье. Действительно, пора.
Купил Мих два калача огроменных за четыре копейки. Еда хоть и черствая, залежалая, однако питательная. Да и любил орчук все самое простое, как папенька его говаривал, «незамысловатое». Репу тушеную, кисель гороховый, рассольник, щи разномастные, даже из «людской» говядины, грибы в сметане запеченые, пироги. Бывало в дни жирные, прибыльные или особливо удачливые, угощали его яствами наниматели, то ли из жалости, то ли забавы ради. Всем интересно поглядеть, как чудовище такое будет белорыбицу тушеную али артишоки фаршированные кушать. Не знали, что орчук не только этикетам разностным обучен, но даже грамоте мало-мальской. Все же папенька был человеком, и всю жизнь старался из него, Михаила Бурдюкова, человека сделать, царство ему небесное.
А может и вправду махнуть к Острожевскому тупику, поединок посмотреть? Время раннее, идти недалече, хоть какое-то разнообразие в жизни. Конечно, сошлись по обыкновению студенты меж собой, покричат, пошумят, шпагами помашут, ранятся немного, да домой разойдутся. И то забава.
Прошел три улицы, ножищами толстыми мостовую меряя. Камень разгорячился за день, мимолетно ступать на него приятно, даже щекотно, а вот подолгу не задержишься, обожжешься. Слава Богу, в Острожевском тупике хоть и светло, но все же прохладнее. С трех сторон окружен он высокими, в три этажа, домами, с четвертой, что на Верхноколоменскую выходит, солнце лишь под вечер, как сейчас, зыркает.
Осмотрел Мих, ох, Божья Матерь-Заступница, люду-то разного сюда набилось, как ворья на ярмарку: рабочих десятков несколько, крестьян, что в город на заработки приехали, ребятишек прорва, шмыгают туда сюда, купцов восемь человек, пришли, не побрезговали, стоят особливой кучкой, служивых тоже набилось. Но самое главное, у самих зачинщиков трое высокородных, таких по лицу и взгляду отличить нетрудно.
— Плошка, хоть сюды, — увидел знакомую чумазую физиономию орчук.
— Чего тебе, Мих? — Хоть бока руками подпер, но все же подошел малец.
Махонький совсем, осмолеток, Гришки-пропойцы сынок четвертый. Всю жизнь орчук удивлялся таким людям — живут, чем Бог на день им подаст, а семьи большие. Дети в рванье, вечно голодные, однако из большинства люди настоящие вырастают. Если выживут, конечно.
Отломил половину от оставшегося второго калача и протянул мальцу. Тот не погнушался черствого хлеба, откусил.
— Плошка, а чего там намечается?
— Нешто не видишь, поединок.
— Оно и козе понятно, что не масленичные гуляния. Ты мне скажи, людей отчего так много? Да высокородные как сюда прибились?
— Так биться будут высокородные оба, вот у них энти, как их самое, сенкунданты, вот.
— Нечто? — Удивился орчук.
— И это, ты место получше займи. Сейчас народу еще боле набежит. Поединок непростой, до Поглощения.
— Быть не может.
— Вот те и не может. Мих, побег я, а? — Умоляюще посмотрел Плошка, гадая промеж себя, сполна он рассказал за кусок калача или нет.
— Ну беги, — махнул ему орчук.