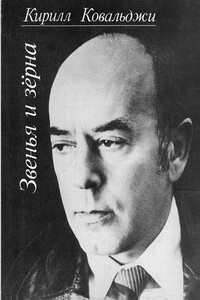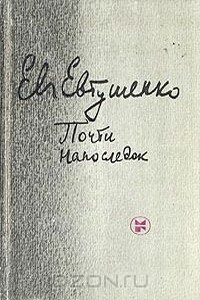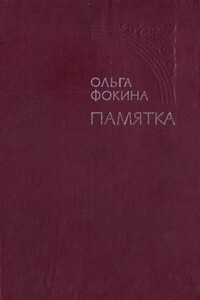Ты примчалась, комета Галлея,
в год положенный, месяц и час,
деловито,
хвостатая фея,
развернешься
и скроешься с глаз.
Расписание есть расписание,
но за каждый твой оборот
на Земле
подлежит списанию
чуть не весь наличный народ.
Я жалею,
комета Галлея,
что на стыке космических трасс
я тебя встречаю, старея,
в первый раз
и в последний раз.
Философски, как должно, подкованный,
с положеньем согласен вполне:
мир единственный,
мне дарованный,
не сошелся клином
на мне.
Бесконечностью человечества
и конкретной улыбкой детей —
чем иначе,
как рана, залечится
быстротечность жизни моей?
Ну а вдруг
мы последние люди? —
двадцать первого века звезда,
прилетишь, а его не будет,
двадцать первого…
Что тогда?
Без тебя, доложу, как за сутки,
в промежутке,
пока вдали
ты носилась,
здесь поступью жуткой
две войны мировые прошли!
А еще в тридцатых проклятых
перелом, перегиб,
перешиб…
Год Победы был —
сорок пятый,
за Победою —
атомный гриб!
Не при Сталине,
не при Гитлере,
а во времени подобрей,
но под знаком всеобщей гибели
молодые
танцуют брейк…
И еще — как тебе, комете,
объяснить,
что едим и пьем,
а голодные черные дети
в двух шагах
на экране цветном?
И мещане списали пророка,
обложились вещами взамен
и не внемлют вещанию рока,
как приемники
без антенн.
И взрывается в небе
«Чэлленджер»,
словно в гневе
на некий грех
вдруг сомкнулись
Вселенной челюсти,
расколов крылатый орех.
Раскаленный уран
в бетоне
захоронен у Припять-реки…
Разве только беда —
синхронный
переводчик на все языки?
Ты, шальное дитя мироздания,
растревожь,
напророчь одно,
что сознанием,
только сознанием
бытие
может быть спасено,
что не зря
на закате века,
словно чуткие пальцы Земли,
погрузились
«Джотто» и «Вега»
в расплетенные косы твои.
Улетаешь по расписанию,
здесь весна,
зеленеет май.
Слышишь голос Земли:
— До свидания! —
И мой голос мгновенный:
— Прощай…