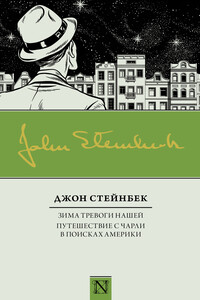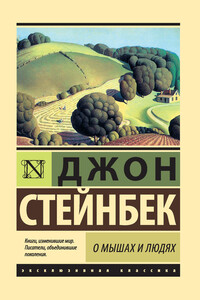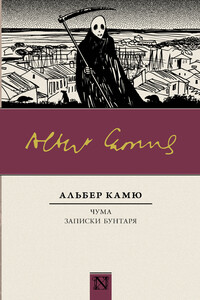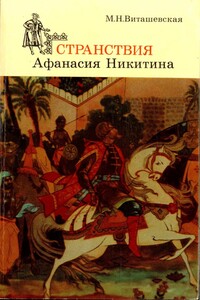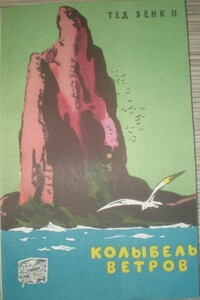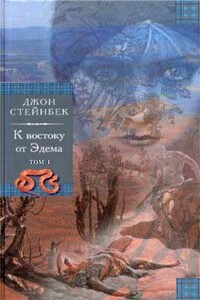Солнечным апрельским утром Мэри Хоули открыла глаза, перевернулась на другой бок и обнаружила, что ее муж сунул мизинцы в рот, растянул щеки и изображает лягушку.
— Ты смешной! — сказала она. — Итан, ты прирожденный комик.
— Мисс Мышка, выходи-ка за меня замуж!
— Дурачишься с утра пораньше?
— И год рад весне! И день утру рад![1]
— Значит, дурачишься. Помнишь, что сегодня Великая Пятница?
— Гнусные римляне строятся, чтобы идти на Голгофу.
— Не богохульствуй! Марулло разрешит тебе закрыться в одиннадцать?
— Моя цыпонька-краса, Марулло — католик и итальяшка-иммигрант. Вряд ли он вообще сегодня явится. Закрою в полдень и не открою, пока не кончится казнь.
— Рассуждаешь как пилигрим. Нехорошо так говорить!
— Чепуха, букашечка! Это у меня от предков со стороны матери. Так говорят настоящие пираты. И, между прочим, казнь действительно была.
— Какие еще пираты? Ты же говорил, они были китобоями, со специальными грамотами от Континентального конгресса, уж не знаю, как они там называются.
— Зато на кораблях, которые они обстреливали, их считали пиратами. А те римские солдаты считали, что это была казнь.
— Ну вот, теперь ты злишься. Мне больше нравится, когда ты дурачишься.
— Я всегда дурачусь. У кого хочешь спроси!
— Вечно ты мне голову морочишь! Тебе есть чем гордиться: в одной семье и отцы-пилигримы, и капитаны-китобои.
— А им-то гордиться и нечем.
— Почему?
— Разве стали бы мои предки гордиться, узнав, что породили чертова бакалейщика для чертова хозяина-итальяшки в городе, который когда-то принадлежал им целиком?
— Никакой ты не бакалейщик. Скорее управляющий — ведешь бухгалтерию, относишь деньги в банк и заказываешь товар.
— Само собой. Еще я подметаю, выношу мусор и хожу перед Марулло на задних лапах, а будь я чертовым котом, то и мышей бы для него ловил.
Мэри обвила мужа руками.
— Лучше давай дурачиться, — сказала она. — Прошу, не сквернословь в Великую Пятницу! Я тебя люблю.
— Ладно, — немного погодя ответил он. — Все вы, женщины, так говорите. Только не думай, что поэтому тебе можно валяться в чем мать родила в постели женатого мужчины!
— Хотела поговорить с тобой о детях.
— Они в кутузке?
— Ну вот, опять дурачишься. Пусть они сами скажут.
— Почему бы тебе…
— Сегодня Марджи Янг-Хант мне снова погадает.
— Она гадает на бобах? Кто эта Марджи Янг-Хант? И чем она всех пастушков пленила?[2]
— Хорошо, что я не ревнива! Говорят, если мужчина нарочито не замечает красивую девушку…
— Ничего себе девушка! Два брака за плечами.
— Ее второй муж умер.
— Завтракать пора. Ты веришь в эту ерунду?
— Ну, про брата карты сказали правду. Помнишь: кто-то из родных и близких?
— А кто-то из моих родных и близких получит хорошего пинка, если не возьмет курс на кухню…
— Уже бегу! Как насчет яичницы?
— Пожалуй, пойдет. Кстати, почему именно Великая Пятница? Что в ней великого?
— Ах, Итан! — вздохнула она. — Все бы тебе шутить!
Кофе сварился, на тарелке лежали яичница и гренки. Итан Аллен Хоули проскользнул в уголок возле кухонного окна.
— Чувствую себя великолепно, — заметил он. — Почему эту пятницу называют Великой?
— Весна, — пояснила она, стоя у плиты.
— Весенняя Пятница?
— Весеннее обострение. Дети уже встали?
— Вряд ли. Маленькие дармоеды. Давай растолкаем их и выпорем!
— Ну и шуточки у тебя! Обедать придешь?
— Нет.
— Почему?
— Женщины. Вожу их тайком с двенадцати до трех. Может, и твою Марджи позову.
— Не смей так шутить, Итан! Марджи — настоящая подруга! Она последнюю рубашку с себя снимет!
— Неужели? Откуда у нее рубашка?
— Опять ты говоришь как пилигрим.
— Спорим, мы с ней в родстве? В ней тоже течет кровь пиратов.
— Опять ты валяешь дурака! Вот список продуктов. — Она сунула ему в нагрудный карман листок. — Вышло много, но ведь Пасха все-таки! И не забудь про яйца — две дюжины, запомни. Ты уже опаздываешь!
— Знаю. И Марулло обеднеет на пару грошовых покупок. Зачем нам столько яиц?
— Будем красить. Аллен и Мэри-Эллен очень просили. Тебе пора!
— Как скажешь, мой жучиный цветочек! Можно я сначала сбегаю наверх и намну бока Аллену и Мэри-Эллен?
— Итан, ты избаловал их до безобразия! Сам знаешь.
— Прощай, корабль! В добрый путь![3] — объявил он, захлопнул за собой дверь из проволочной сетки и вышел в золотисто-зеленое утро.
Итан оглянулся на красивый старинный дом, в котором жили его отцы и деды: обшитый досками, выкрашенными белой краской, над парадной дверью арочное окно, повсюду элементы декора в духе братьев Адамов, на крыше смотровая площадка — так называемый вдовий мостик. Дом стоял в глубине зеленеющего сада среди столетних сиреней, чьи стволы в обхвате достигали туловища взрослого человека, а ветки покрылись набухшими почками. Старые вязы на Вязовой улице ничуть не уступали им по вышине и тоже выпустили первые листочки, окрасившись желтой дымкой. Выглянувшее солнце осветило здание банка и засверкало на серебристом резервуаре для бензина, от старой бухты пахнуло бурыми водорослями и солью.