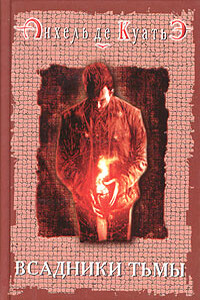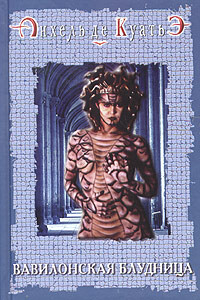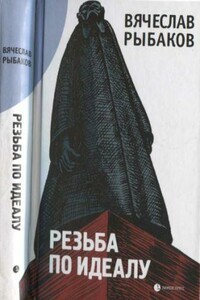Возможно, кто-то, как и он, еще отсиживался в подвалах, убежищах, бункерах. Возможно, кто-то еще не замерз в Антарктиде. Вполне возможно, в стынущих темных глубинах еще дохаживали свое подлодки, снуло шевеля плавниками винтов и рулей. Все не имело значения. Этот человек ощущал себя последним и поэтому был последним.
После того как над коттеджем прогремели самолеты – бог знает чьи, бог знает куда и откуда, – подвал затрясся, едва не лопаясь от переполнившего его адского звука, – сверху уже не доносилось никакого движения, только буря завывала. Человек едва не оглох тогда и не скоро услышал, что малышка проснулась – перепуганно кричит из темноты, заходится, давится плачем. Конечно, это были самолеты – один, другой, третий, совсем низко. Зажег фонарик. Пошатываясь, – для себя он не успел захватить никакой еды, а прошло уже суток четверо, – побежал к дочери. Бу-бу-бу! Кто это тут не спит? Страшный сон приснился? Фу, какой противный сон, давай его прогоним, вот так ручкой, вот так. Прогна-а-али страшный сон! Спи, не бойся, папа тут. Все хорошо. Примерно через сутки ударил мороз.
Ледяные извилистые струйки медленно, словно крупные хлопья снега, падали сверху, с потолка, затерянного в темноте. Теплые вещи летом хранились здесь – повезло, – и человек все нагромоздил на малышку, только свое пальто надел на себя. Где-то он читал об этом или слышал – вся дрянь, гарь, миллионы тонн гари и пыли, которые взрывы выколотили из земли, плавали теперь в стратосфере, пожирая солнечный свет. Малышка стала плакать чаще, чаще звала маму, чаще просила есть, – человек экономил молоко и все кутал ее, все боялся, что она простудится. Гу-гу-гу! Кто это тут не спит? Ночь на дворе, видишь, как темно – хоть глаз коли. Мама утром придет. «Мама» она уже две недели как выговаривала, а «папа» никак не хотела, это его очень огорчало, хотя он и не подавал виду, посмеивался.
Потом все как-то сразу подошло к концу. Когда малышка вновь захныкала, человек едва мог встать, едва нащупал коченеющими руками свой фонарик – пустил в потолок обессилевший красноватый луч. Высветился стол, кроватка под ворохом одежды, тонущие в тени шкафы и стены. Человек слил остатки воды в кастрюлечку, из коробка достал последнюю спичку, из шкафчика – последний пакет молока, уже до половины пустой, из аптечки – снотворное. Растолок все таблетки. Снял с полки очередную книгу, разодрал, – чиркнув спичкой, зажег бумагу под кастрюлькой. Стало светлее, подвал задышал, заколыхался в такт колыханиям рыжего огня. Резало привыкшие к темноте глаза. Но человек смотрел, читал напоследок – раньше, в толчее дел, некогда было перечитывать любимые книги, теперь дела уже не мешали. «Нет! Не в твоей власти превратить почку в цветок! Сорви почку и разверни ее – ты не в силах заставить ее распуститься. Твое прикосновение загрязнит ее, ты разорвешь лепестки на части и рассеешь их в пыли. Но не будет красок, не будет аромата. Ах! Не в твоей власти превратить почку в цветок. Тот, кто может раскрыть почку, делает это так просто…» Пламя медленно, словно лениво, ползло по странице, переваривало ее, и страница ежилась, теряя смысл. Оставались хрупкие, невесомые лохмотья. Сюда нальешь воды, на две трети бутылочки примерно. Уразумел? И в воде разогревай. Мы всегда превыше всего ценили мир, говорил человек в экране энергично и уверенно. Если нам понадобится еще пятьдесят ракет, мы развернем все пятьдесят, и никто нам не помешает. Мы руководствуемся только своими интересами и своей безопасностью. Вашей безопасностью! Мы не устаем бороться за мир с оружием в руках везде, где этого требуют жизненные интересы нашей страны. Перестань косить в телевизор. Одно и то же бубнят каждый день. Мир, мир, – а переезд третий день починить не могут… Попробуй обязательно, не перегрел ли. Да не рукой пробуй, а щекой! Она чмокнула его в щеку. Ой, у тебя и щеки-то ничего не поймут, я тебя до мозолей зацеловала. Или не только я? Не уезжай, попросил человек. Я к вечеру вернусь. Отец очень звал, супу вкусного хочет. Ну я же к вечеру вернусь. А ты оставайся тут за родителя. Научишь ее «папа» говорить, пока я не отсвечиваю. Ой, как я буду назад спешить, мечтательно проговорила она и пошла к станции, а он остался за родителя. Когда согрелось молоко в стеклянной бутылочке с мерными щербинками на боку, он высыпал туда порошок и тщательно разболтал.
– Соображаешь, чем пахнет? – спросил он хрипло и попробовал бутылочку щекой. – Сейчас папа тебя накормит.
Услышав слово «накормит», она завозилась, пытаясь выпростать руки из-под укрывавшей ее рыхлой горы.
– Папа, – отчетливо сказала она, когда человек перегнулся к ней над сеткой кровати. Поспешно зачмокала, скривилась – горьковато, – но ни на миг не выпустила соску, только смешно морщилась, вразнобой перебирая мышцами маленького лица.
– Вот умница, – приговаривал человек, свободной рукой поддерживая пушистый теплый орешек ее головы. – Вот молодец… Как славно кушает…
Она все-таки высвободила руку, он стал запихивать ее обратно, он и теперь боялся, что она простудится. Не сбавляя темпа, она шумно дохлебала последние капли, отодвинула его руку и, удовлетворенно смеясь, вцепилась крохотными пальцами в щетину на его подбородке. Он ткнулся в гладкую кнопку ее носа, потерся лбом, щеками – она хохотала, повизгивала.



![Если бы в конце XV века Новгород одержал победу над Москвой [Об одном несостоявшемся варианте истории русского языка]](/storage/book-covers/72/72d8e17f639218304b6e757501661262067f2b73.jpg)