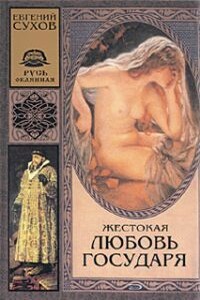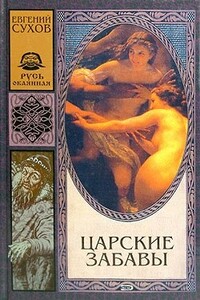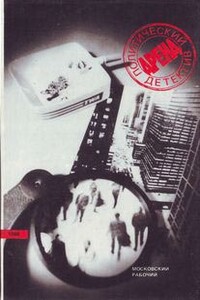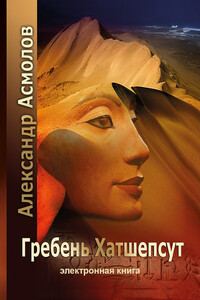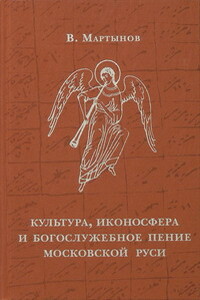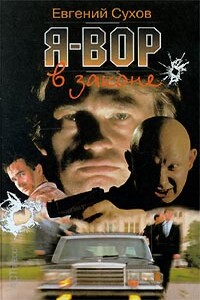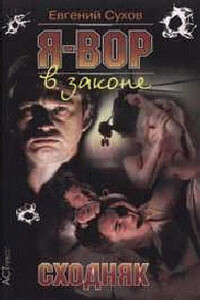Часть первая
Великий князь всея Руси
Монетный двор
С левого берега Неглинки ухнуло — это на Пушечном дворе тешились пищальники, стараясь угодить каменным ядром в ледяную крепость, которая величаво скользила по мутной весенней реке. Этот выстрел заставил воспарить в воздух бестолковую воронью стаю. И еще долго, криком будоража окрестность, птицы не смели возвратиться на взрыхленное, отошедшее от снега поле.
Перемена к новому ощущалась не только в несмолкающем вороньем гомоне над куполами Благовещенского собора, но и в самом воздухе, который сейчас был как никогда свеж, и в пестрых нарядах посадского люда, спешившего снять с себя суконные душегрейки и обрядиться в яркие длиннополые кафтаны. Бабы, под стать погоде, повязывали цветастые платки, не жалея белил, светили лицо и, зацепив ведра на коромысла, шли по воду, как на гулянье. Обернется иной мужик на ладную девичью фигуру и, словно устыдясь бесовского погляда, пойдет далее, ускоряя шаг.
День был торговый, и уже с утра с посадов и из окрестных деревенек, несмотря на слякоть, тянулись в Кремль повозки с товаром. Караульщики, стоявшие у ворот, в город пускали не всякую телегу: одно дело — промысленники великого князя, что везут ко двору снедь всякую, другое дело — человек подлый, решивший обжиться на базаре да товару прикупить. Дворовых государя было видно издалека — пожалованы из казны кафтанами. Мужики одеты поплоше — вместо ферязей[1] армяки[2] и на голове не увидеть горлатной шапки.[3] Черные люди, покорно подчиняясь взмаху бердышей, останавливали лошадей и, сетуя на месяц цветень,[4] шли пешком в город. С сожалением вспоминалась зима, когда торг шел на Москве-реке, куда сходились купцы со всей Московии, — не то, что ныне!
Даст иной мужик караульщику в руку копейку и попросит последить за мерином. Тот хмыкнет под нос и велит мужику проходить. Хоть и нет уверенности в том, что лошадь будет присмотрена, да с уговором оно как-то легче.
В торговый день Москва походила на густую паутину, сплетенную искусным ловчим, к самому центру которой узкими посадскими улочками пробирались торговые люди, а за ними шли в стольную нищие в надежде собрать щедрую милостыню и обрести на ночь теплый кров.
Силантий отвесил поклон страже, которая лениво поверх голов наблюдала за движением льда на Москве-реке: громадины, соединяясь, образовывали огромные храмы, а то вдруг, повинуясь чьей-то невидимой воле, наползали на крутые берега и рассыпались с мягким шорохом.
Купола Благовещенского собора были видны издалека, их золотой свет слепил глаза, а маковки напоминали солнце. Силантий снял шапку и пошел прямиком на главки Грановитой палаты.
Ворота великокняжеского двора распахнулись, и на улочки в одинаковых красных кафтанах выехала дюжина всадников. Украшенные золотом попоны на лошадях свисали едва ли не до земли. За ними, чуток поотстав, следовало трое бояр в куньих шубах. Среди них выделялся тот, что ехал посередке: парчовая ферязь, сафьяновые сапоги с татарским узором, на голове черевья шапка.[5] Боярин как бы не замечал склоненных голов, держался прямо, будто опасался, что огромная шапка, башней торчавшая на самой макушке, свалится набок и останется он простоволосым среди покорной и безмолвной толпы. Но эта невнимательность была напускной: пронзительный взгляд цеплял мастеровых, с разинутым ртом смотрящих на боярина, девок, закрывающих рукавами лица, юродивого, стоящего на коленях у самых ворот. Если чего и не видел боярин, то враз подмечали всадники и щедро раздавали удары плетьми каждому мужику, осмелившемуся предстать в шапке.
Боярин горделиво повел головой, и его взгляд остановился на Силантии.
— Кто таков?! Как на княжеский двор забрел? — осерчал вельможа.
Детина распрямился и, остановив взгляд на золотых пуговицах боярина, отвечал:
— Силантий я, господин, на службу к государю иду, по чеканному делу я мастер.
— Так и шел бы на Монетный двор.
— Был я там. К боярину Воронцову Федору Семеновичу отослали — только он один и решает, кому из мастеров быть на Монетном дворе.
— Не похож ты на чеканщика, — усомнился боярин, — больно рожа у тебя разбойная. Третьего дня двоим таким, как ты, олово в глотку залили, а другому уши отрезали.
Силантий различил, что верхняя пуговка на груди сердитого господина без позолоты и чуток примята, и догадался, что перед ним кулачный боец.
— Почто понапрасну недоверием обижаешь, боярин? Я не из таких, а чеканю я не рожей, а руками! — Силантий развернул ладони, показывая их всаднику. — Ишь ты! Языкастый какой! Эй, Захарка, кличь боярина Воронцова, скажешь, что чеканщика ему сыскал, — наказал вельможа одному из слуг, и тот, расторопно погоняя жеребца, вернулся на великокняжеский двор.
Боярин, сразу позабыв о Силантии, повернул коня в Китай-город.
— Кто это? — спросил чеканщик, когда отряд всадников спрятался за изгородью собора.
— Кто? Кто? — пробурчал дворовый, натягивая на уши шапку. — Неужто не признал? Сам князь Андрей Михайлович Шуйский будет! Благодари господа, что без башки не остался. Крут он! Не велено по двору таким лапотникам, как ты, шастать. И как это стража недоглядела?