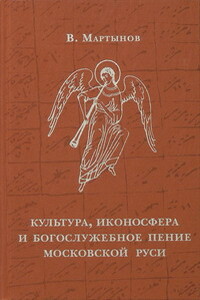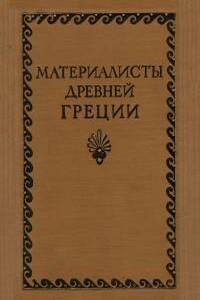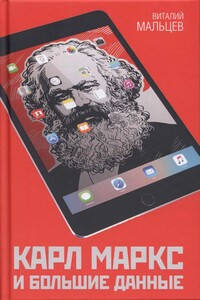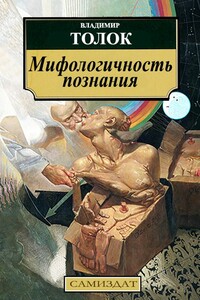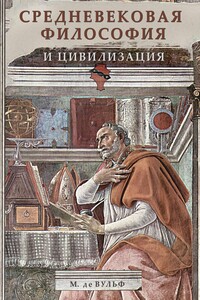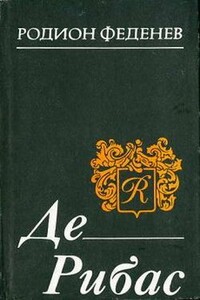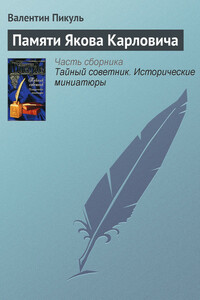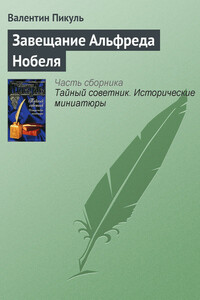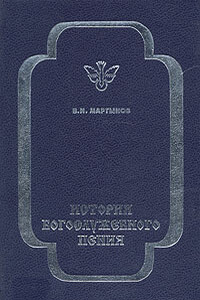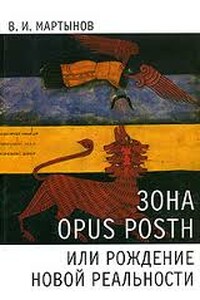1. Об особенностях культуры Московской Руси
Во всем многообразии культур, сменяющих друг друга на арене мировой истории, не найти, наверное, другой культуры, современное представление о которой было бы столь недостоверным и неопределенным и которая вместе с тем являлась бы объектом столь многих негативных суждений и отрицательных оценок, как культура Московской Руси. Подчас уже само соприкосновение с этой культурой воспринимается как какое-то вступление в зону повышенной опасности. «В самом деле, можно ли безопасно воскрешать эти пережитые страницы человечества, можно ли выводить на свет Божий без того, чтобы они своим призраком не смутили ровного хода текущей жизни и не дали бы пищи суеверию?»[1], — вопрошает автор предисловия к публикации постановлений Стоглавого Собора 1555 года. И хотя цель этого предисловия заключается именно в том, чтобы рассеять подобные опасения, уже поставленный таким образом вопрос не может не вселить ощущение тревоги, вызываемой фактом публикации данного текста.
Однако, даже если оставить в стороне представление о культуре Московской Руси как средоточии косности и различных суеверий, то придется столкнуться с еще более распространенной точкой зрения, согласно которой все, происходящее в России вплоть до XVIII века, представляет собой не более чем прелюдию, репетицию или разминку, предваряющую культурный расцвет девятнадцатого столетия. Примером воплощения подобной концепции может служить публикующееся в настоящее время десятитомное издание «Истории русской музыки», первый том которого, озаглавленный «Древняя Русь», охватывает огромный семивековой период истории — с XI по XVII век, — в то время как описание последующих трех веков вольготно располагается в объеме целых девяти томов. Такое распределение материала дает реальное представление как о месте, занимаемом древнерусской культурой в открывающейся современному взору исторической перспективе, так и о той степени интереса, которую проявляет к этой культуре историческая наука наших дней. И хотя при подобном подходе культура Московского государства не рассматривается уже как нечто враждебное «ровному ходу текущей жизни», то общая оценка ее остается все же очень низкой, ибо понимается она не иначе, как сырьевой придаток истории, или же представляется неким гадким утенком, лишь в отдаленной перспективе превращающимся в прекрасного лебедя русской культуры эпохи Толстого, Достоевского и Чайковского.
Наконец, существует еще один взгляд на культуру Московской Руси, согласно которому культура эта есть нечто иррациональное, изначально не поддающееся пониманию, что-то такое, в чем вязнет логика и глохнет мысль. Эта концепция непроницаемости России для любого усилия мысли и акта познания породила стойкий миф о «русском сфинксе» или «загадочной русской душе» и обрела классическую формулировку в знаменитых тютчевских строках: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить». Однако тот факт, что Россия не может быть измерена тем же аршином, которым измеряются другие культуры, фактически исключает ее из семьи мировых культур, приводит к самозамыканию и превращает тем самым в некую коллапсирующую черную дыру, вообще не существующую с точки зрения постороннего наблюдателя. Характерным примером такого стороннего наблюдателя является Альбер Камю, который в своих рассуждениях о России XIX века называет русских «молодой нацией, появившейся на свет немногим более века назад с помощью акушерских щипцов, которыми орудовал царь»[2]. Подразумевая под царем-акушером Петра Великого, Альбер Камю относит тем самым рождение русской нации к XVIII веку, а это значит, что ни о какой древнерусской культуре говорить вообще не приходится.
Таким образом, соприкасаясь с феноменом культуры Московской Руси, современное сознание или вообще игнорирует сам факт ее существования, или, признавая существование древнерусской культуры, ощущает ее как нечто мало значимое и мало ценное, или же, наконец, признавая некоторую значимость этой культуры, наделяет ее сугубо негативными и отрицательными свойствами. Причины такого неприятия коренятся как во внутренней природе культуры Московского государства, так и во внутренней природе современного сознания. Дело в том, что фундаментальные принципы мышления и методы познания, составляющие суть современного сознания, формировались и выковывались в борьбе с церковным жизнепониманием Бытия, в то время как культура Московской Руси представляет собой наиболее полное и бескомпромиссное воплощение именно этого жизнепонимания, и, стало быть, если исходной точкой современного сознания является расцерковленное Бытие, то исходной точкой древнерусской культуры следует считать Бытие воцерковленное. А это значит, что современное сознание и древнерусская культура не просто по-разному интерпретируют Бытие, но представляют собой различные семантические системы или различные языковые игры, ни одна из которых не может быть понята или объяснена за счет другой, и смысл которых может быть постигнут только при самостоятельном параллельном исследовании каждой из них. Вот почему любое претендующее на полноту исследование культуры Московской Руси должно начинаться с определения того, в какой степени принципы мышления и методы познания, присущие нашему сознанию, вообще могут служить инструментом постижения этой культуры.