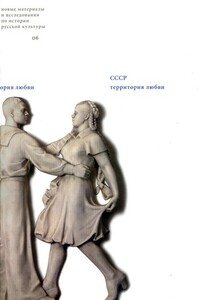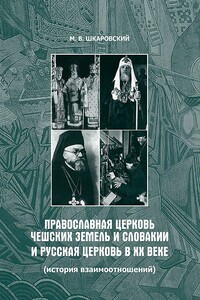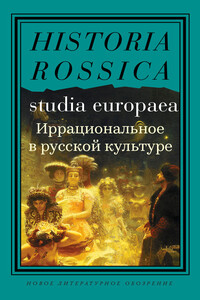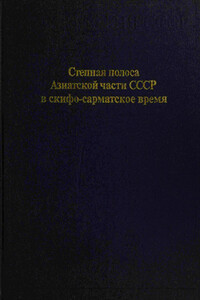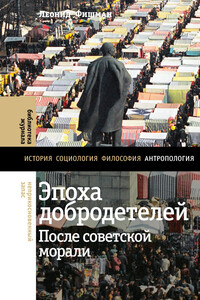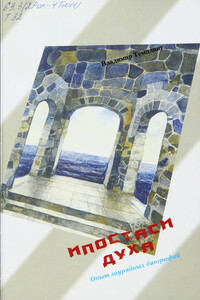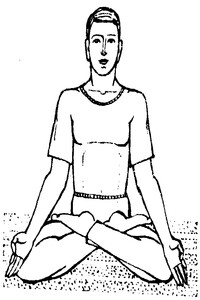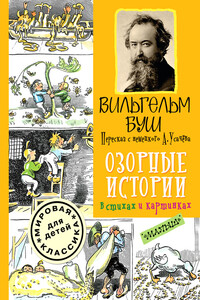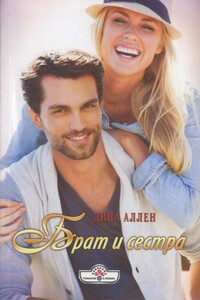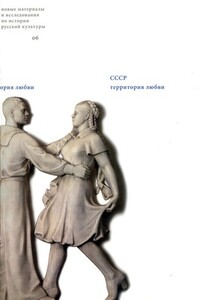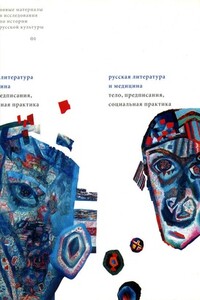Безусловно, напрашивается сама собой интерпретация последнего полнометражного фильма Дзиги Вертова «Колыбельная» (1938) как неудачной попытки утверждения авангардистской стилистики в условиях социалистически-реалистического «огосударствения» советского киноискусства 1930-х годов. Вызвано это в первую очередь пышной символикой фильма и неуемным восхвалением Сталина. Поэтому «Колыбельная» может быть рассмотрена как наглядный пример культурного и общественно-политического развития советского тоталитаризма поздних 30-х годов. Насколько ясно место фильма в истории тоталитарной культуры, настолько сложен и неоднозначен фильм с точки зрения истории кино в частности и истории медиа в целом. Рассмотренная под этим углом, «Колыбельная» отчетливо выражает общую тенденцию европейского модерна 30-х годов — уход от формально-абстрактных и аналитических стилевых приемов и обращение к фигуративным, синтетически-мифологическим способам изображения. Возврат к фигуративности в литературе, изобразительном искусстве и кинематографе социалистического реализма протекает параллельно соответствующим явлениям европейского искусства — в частности, во французском сюрреализме. Ту же самую тенденцию можно проследить и у Вертова, чей интерес к формально- и материально-эстетическим аспектам киномедиальности именно в 30-х годах уступает место ориентации на план содержания, что выражается в обращении к сюжету (советской) женщины.[2][3]
В связи с этим мы ставим себе в нашем анализе две задачи. Во-первых, существенным представляется вопрос о том, в какой степени обращение к женскому сюжету соответствует общей тенденции в развитии визуальных медиа, и прежде всего кино 20–30-х годов, а также насколько способы изображения женщин, которые мы находим в «Колыбельной», соответствуют стилевым поискам других режиссеров этого времени. Этой проблеме сопутствует второй вопрос — о связи визуальности и визуальных медиа с концептуализацией половых различий. Именно со второго аспекта проблемы мы и начнем анализ.
1
Жаждущий взгляд Эдипа и эротический фантазм Дон-Жуана
В перспективе «Большого времени» после изобретения фонетического алфавита в Древней Греции и введения книгопечатания в конце XV столетия кинематограф является третьим, решающим технологическим толчком автономизации и совершенствования визуальных медиа. На коротком экскурсе в медиальную историю письма, типографии и кино можно проследить, как с каждым шагом медиальной эволюции заново пересматриваются и формы изображения половых различий, и эротические сюжеты[4].
Оба первых эпохальных технологических толчка — символическая визуализация языка в (графическом) пространстве фонетического письма и фактически полный отход от телесности языка через преодоление рукописной культуры в книгопечатании — находят свое воплощение в двух распространенных сюжетах, вошедших в европейский литературный и общекультурный канон: мифе об Эдипе и истории Дон-Жуана.
История Эдипа, базовый миф всей европейской культуры, повествует о дестабилизации и деиерархизации, охватывающих социальный и политический строй общества в тот момент, когда действия героя и его мировоззрение основываются уже не на (мифологическом) пересказе, а на непосредственном видении — на любопытствующем, жаждущем взгляде. Миф об Эдипе тематизирует те проблематичные следствия автономизации и доминирования визуального по отношению к вербальному, с которыми столкнулась греческая культура в результате изобретения фонетического алфавита[5]. Интеллектуальные качества Эдипа и его способность к абстрактному мышлению, способствовавшие его победе над Сфинксом; отцеубийство и инцест, два преступления, совершенные им по неведению; и, наконец, его проницательность, открывающая ему его собственную вину, — все это является результатом безграничной веры как во внешнюю очевидность желаемых объектов, так и во внутреннюю очевидность логической аргументации. Фатум, провозглашаемый этим мифом, заключен в неизбежной, тотальной, охватывающей всех членов сообщества вине. Эта вина состоит в следующем: архаическое общество рушится в тот момент, когда на устные, нарративные, ритуальные формы сосуществования, укорененные в глубине мифического времени, накладываются индивидуализированные действия, основанные на логике настоящего момента и визуальном факте. С переводом языка в систему визуальных знаков индивидуум попадает в трагический конфликт с обществом, определяющийся противостоянием природы и культуры и асимметрией естественно-биологических механизмов желания, с одной стороны, и политически-социального устройства общества — с другой. Этот конфликт с самого момента утверждения фонетического алфавита оказывается принципиально неразрешимым, несмотря на постоянные попытки урегулирования. Из этого смещения от вербальности к визуальности, вызванного доминированием письма, и вытекает миф об Эдипе.
Аналогичное совпадение всех четырех моментов — конфликта визуальности и письма, индивидуации, эротического желания и (политического) противостояния поколений — содержится также в истории Дон-Жуана, ставшей особенно популярной в европейской литературе Нового времени с введением книгопечатания и вызванного им второго толчка автономизации визуальности. Подобно Эдипу, литературно образованный Дон-Жуан является фигурой, облеченной определенной медиальной силой, однако его действия вызваны не стремлением к политической власти, а сексуально-эротическим желанием. Несмотря на то что акценты в этих двух историях расставлены совершенно по-разному, конфликт власти и индивидуума и конфликт поколений в сюжете Дон-Жуана играет не меньшую роль, чем в мифе об Эдипе. В развитии действия и расположении фигур дуэль и последующая смерть Командора, отца Донны Эльвиры, занимает в истории Дон-Жуана то же место, что и убийство короля Лая. Проблематика авторитета эксплицитно выражена в издевательском отношении Дон-Жуана к отцу (особенно явном у Мольера), стремящемуся образумить блудного сына. Определенное сходство отмечается также в трактовке проблемы вины. Если Эдип сам признает свою вину перед обществом и наказывает себя ослеплением за подпадение под власть визуального, то Дон-Жуан отрицает свою вину. Решающее отличие мифа Эдипа от истории Дон-Жуана заключается не столько в поступках героев, сколько в статусе воображаемого. В отличие от стремлений «реалиста» Эдипа, эротическое желание Дон-Жуана безадресно и в своей неизмеримости целиком ситуировано в сфере фантастического. Желание Дон-Жуана — это желание эротического фантазма. Именно бесконечное возрастание эротического желания в сфере воображаемого и потенцирование антиавторитарных актов против политических и религиозных инстанций отличает сюжет Дон-Жуана от мифа Эдипа. Вместе с тем он маркирует медиальный переход от телесно ориентированного рукописного начертания к типографскому шрифту, в котором, во-первых, укрепляется доминирование визуального по отношению к вербальному, а во-вторых — и это главное — сфера воображаемо-фантастического становится бесконечной в пространстве лишенного телесных референций языка