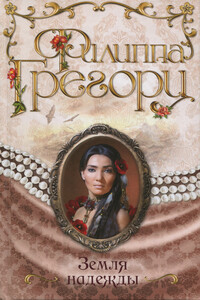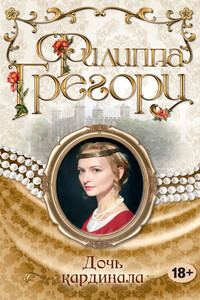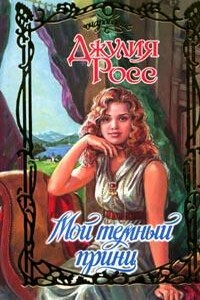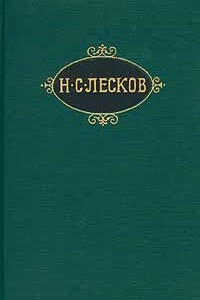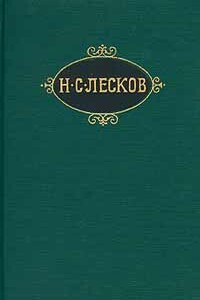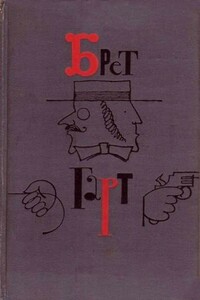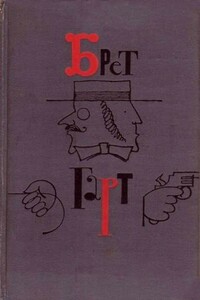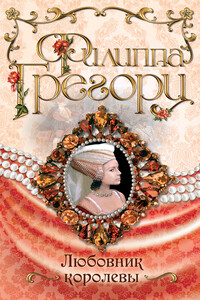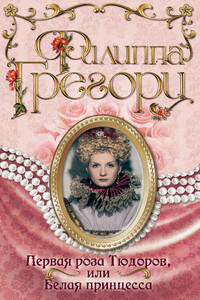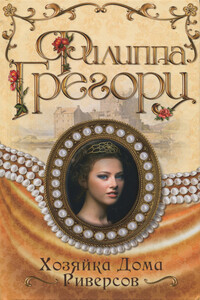Зима 1638 года, в море
Его разбудили звуки движущегося корабля — поскрипывание шпангоутов, ноющие вздохи полных парусов, внезапный треск блоков от рифления, резкие команды и грохот сапог по палубе прямо над лицом. Море постоянно атаковало крошечный корабль ударами волн о нос. Корабль со стоном взбирался на одну волну, потом неуклюже переваливался с борта на борт и встречал удар следующего вала…
Шесть долгих недель он засыпал и просыпался под это непрерывное назойливое грохотанье, и теперь оно казалось ему знакомым и успокаивающим. Эти звуки означали — маленький кораблик храбро идет вперед, через ужасающие пространства ветра и воды, все вперед на запад, не теряя веры в то, что где-то там, впереди, на западе, должна быть новая земля.
Иногда Джей воображал себе путь корабля с высоты птичьего полета, так, как его могла бы видеть чайка. И тогда ему рисовалась бесконечная пустыня моря, а на ней — хрупкое суденышко, в сумерках зажигающее огни и доверчиво идущее вперед, туда, где они в последний раз видели солнце.
Он отправился в путь, пережив глубокое горе. Он бежал от этого горя.
Он все еще с яркой, радостной, поразительной реалистичностью видел во сне жену. Ему постоянно снилось — она пришла к нему на корабль и, смеясь, жалуется, что не было никакой особой нужды пускаться ему в плавание, не нужно было ему убегать в Виргинию одному, потому что — посмотри! — вот же она, здесь, на борту. А все, что случилось, было просто игрой — чума, долгие дни умирания, страшное горе их дочери с мертвенно-бледным лицом — все это было майской забавой, а теперь она снова здорова и сильна, и когда же они отправятся домой?
Но потом ужасающие шум и треск корабля прерывали его сон, Джей накрывался с головой отсыревшим одеялом и пытался цепляться за свой сон, в котором была Джейн и в котором — он был уверен — она жива и все хорошо.
Это ему не удавалось. Приходилось признать суровую правду. Джейн была мертва, его бизнес наполовину обанкротился, отец цеплялся за дом, садовый питомник и коллекцию редкостей, уповая на старую добрую комбинацию удачи и любви друзей. А Джей играл роль избалованного сына — сбежал, называя свой поступок смелым предприятием, шансом на то, чтобы снова разбогатеть. Зная, что это всего лишь побег.
На первый взгляд это был не тот побег, который мог вызвать зависть. Дом в Ламбете был прекрасен, стоял на собственных двадцати акрах сада-питомника и славился во всем мире коллекцией редкостей.
Его отец, Джон Традескант, назвал дом Ковчегом и поклялся, что, какие бы бури и шторма ни потрясали страну, которую король, церковь и парламент пытались вести в разных и зачастую прямо противоположных направлениях, в этом доме семья будет в безопасности.
В доме было с полдюжины спален, большой зал для редкостей, столовая, гостиная и кухня. Маленькому сыну Джонни предстояло все это унаследовать, и его старшая сестричка Френсис уже сейчас умела настоять на собственных правах. И все эти богатства Джей променял на одноместную койку в пять футов четыре дюйма длиной, встроенную в сырую стенку корабля.
Там не было места, чтобы сесть. Его еле хватало, чтобы повернуться. Джею приходилось лежать на спине, глядя на обшивку койки и чувствуя мощное движение волн, попеременно то поднимавших, то опускавших корабль как простую дощечку, которую швыряет океан. Он чувствовал, как справа от него, сразу за наружной обшивкой корабля, волны шлепаются о борт, и слышал шепот журчания воды.
Слева располагалась дверца из реек, за которую он отдал дополнительную плату и которая обеспечивала хоть какое-то крошечное пространство и уединенность. Другие эмигранты, более бедные, спали вповалку, бок о бок, как животные в хлеву, на полу твиндека. Их загрузили в центральную часть корабля, как багаж, жилые помещения команды располагались за ними, на корме, а крошечная каюта капитана, камбуз и каюта кока — в одном помещении — на носу перед ними.
Капитан не позволял пассажирам появляться на верхней палубе, за исключением кратчайших и скупо отмеряемых периодов хорошей погоды. Команда, выходя на вахту, спотыкалась о пассажиров, а при возвращении к своим гамакам на корме, в которых матросы спали попеременно, с них на пассажиров лилась вода. Эмигранты все время путались у команды под ногами, их постоянно проклинали, они были ничтожнее простого груза.
Свертки и ящики громоздились между владельцами в неряшливой неразберихе. Но по мере того как дни складывались в недели, семьи помаленьку устраивали себе собственные маленькие гнездышки и даже делали койки из клеток с цыплятами и мешков с одеждой. Вонь стояла ужасающая. На все про все предоставлялось два ведра: одно — с водой для умывания, второе — для экскрементов. Грязное ведро опрокидывали за борт по строгому расписанию. Капитан не позволял делать это чаще раза в день. Джея всякий раз тянуло на рвоту, когда, согласно очереди, он нес к борту наполненное до краев ведро.
Питьевой воды едва хватало, она была теплой и отдавала бочкой. Еды тоже было в обрез. Комковатая каша на завтрак, то же самое на обед, вечером — сухарь и кусочек старого сыра.
Все это путешествие было бы просто кошмаром, если бы путешественников не поддерживала надежда. Все они были азартными игроками, горсткой семей, поставившей все на удачу в земле, которую они никогда не видели, опасности и возможности которой они едва ли могли себе представить. Джею казалось, что более бесшабашных, порывистых, отчаянно храбрых людей он никогда не встречал. И не знал, бояться ли их, как сумасшедших, или восхищаться ими, как героями.