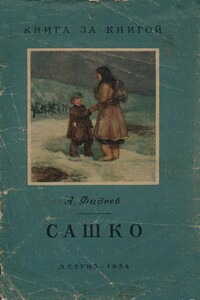В 1920 году по условиям перемирия, заключенного с японским командованием, части Приморской группы отошли на тридцать километров от железной дороги, за нейтральную зону. Второй Вангоуский отдельный батальон отошел в глубокий таежный тыл, в село Ольховку. Батальон должен был построить там зимовья и склады на случай новой партизанской войны.
Наступил август. Давно уже были построены зимовья и склады, а никто не вез ни продовольствия, ни снаряжения. Про батальон точно забыли. В течение месяца бойцы получали по горсти пшена на день.
Решили тогда послать двух отделенных командиров, Федора Майгулу и Трофима Шутку, в ближайшую хлебородную долину — просить помощи.
Федор Майгула и Трофим Шутка были уроженцы южных уссурийских районов, односельчане и одногодки. Они дружили между собой. Это были настоящие парни — рослые, как ясени. Майгула любил помечтать. В свободное время он мог часами лежать на траве и смотреть, как облака плывут по небу, как играет солнце на стволах деревьев, как падают тени утром, в полдень и вечером я меняются краски. А Шутка все хотел знать, что от чего происходит, и любил всякое мастерство, и всякое мастерство спорилось в его быстрых руках. Он был подвижной и веселый, как его фамилия.
Чтобы не заблудились они в окружных болотах, их пошел проводить до правильного ключа местный тигролов и партизан Кондрат Фролович Сердюк старик ростом с Петра Великого, но куда пошире и бородатый. Русая борода его была поразительной мощности и непомерной длинноты.
К тиграм он относился ласково, но без уважения, называл их не иначе, как «котами». За жизнь свою он не менее тридцати «котов» скрутил живьем, а переколотил их, как сам говорил, "и счету нет". Живых тигров он поставлял торговой фирме Кунста для германских зверинцев, а убитых — китайским купцам на лекарства.
Все тело и лицо Кондрата Фроловича было в шрамах и царапинах, правая рука между локтем и кистью сплошь искромсана тигровыми зубами. Как-то с двумя сыновьями он выследил самку, водившую трех полувзрослых котят. Охотники преследовали зверей недели три, не давая самке поохотиться. Под конец котята вовсе обессилели. Самка, отбиваясь от собак, вертелась вокруг да около по тайге, никак не удавалось ее пристрелить. До сумерек повязали двух котят и хотели третьего, да сгоряча, не разобрав в темноте, Кондрат Фролович вместо котенка налетел на самку. Он наскочил на нее сбоку с веревкой в руках и грудью сшиб старуху со всех четырех лап, — опомнился только тогда, когда ее оскаленная пасть возникла над ним и страшный рев едва не оглушил его. Старику ничего не оставалось, как загнать собственную руку в разверстую перед ним пасть поглубже. Тигрица, стеня и задыхаясь, грызла его руку, а сыновья Кондрата Фроловича, боясь стрелять, чтобы не попасть в отца, по очереди били ее винчестерами по голове, пока не сломали винчестеры. И уж сам старик, изловчившись, с левой руки запустил ей кинжал под сердце.
Вынужденный месяцами молчать в лесу, Кондрат Фролович любил поговорить на людях и всю дорогу занимал Шутку и Майгулу степенным своим разговором.
Разговор начался с того, что Майгула спросил:
— И как это ты, дед, тигров не боишься? Ведь злые!
— А чего мне их бояться, коли я знаю, они больше меня боятся, — сказал старик. — Правда, охотнички наши любят порассказывать: мол, на того кот напал, на того — медведь, да то все не истинно. Самый дикой зверь норовит от человека уйти. Зверь напротив человека идет, уж когда ему деваться некуда. Страшней зверя, как человек, в тайге нет.
Тут Кондрат Фролович от зверей перешел к человечеству, и выяснилось, что о человечестве он самого тяжелого мнения.
— Люди не только зверю, они друг другу страшны, человек сам себе страшен, — говорил старик. — Годов тому двадцать водил я экспедицию — один образованный полковник места наши на карту снимал. Раз он мне говорит: "До чего ты, Кондрат Фролович, простой, как ребенок, у тебя и глаз детский". А я ему говорю: "Что ж глаз, когда в сердце у меня коршун". — "Нет, говорит, человек ты очень благородный, а все оттого, что ты на природе живешь". А я ему говорю: "От природы в нас не может быть благородства. Когда б мы, мужики, над ней господа были, может, и было б в нас от нее благородство, а мы по ней ходим. По будням ворочаем пни до кровавого пота, а в праздники с устатку водку пьем, а к вечеру друг друга режем, — тоска да ненависть в нас от нее, а благородства нет". — "А посмотри, говорит, на гольдов: совсем дикой народ, а живут на природе, как дети, разве нет в них благородства?" "Благородство в них есть, — это я ему говорю, — да это, говорю, потому, что у них промеж себя братский закон, а природа для них — мачеха, и они ее боятся". Так и не переговорил он меня. Да и правда: плохо, очень плоховато мы живем. И сколько ни бьемся за правильность, а оно все на старое. Землетрясение, что ли, какое на людей напустить? Пущай бы уж всю землю перетрясло. Поди, те, кто живы б остались, по-новому жить начали. От страху, — пояснил старик и, посмотрев на парней серыми своими глазами, улыбнулся.
Так дошли они до ключа и сели под кедром перекусить перед тем, как расстаться. Поели, и вдруг Кондрат Фролович говорит: