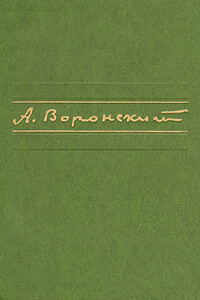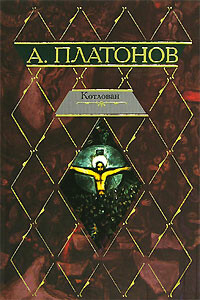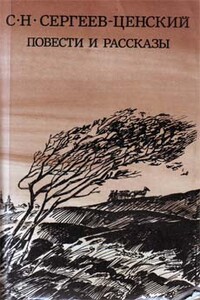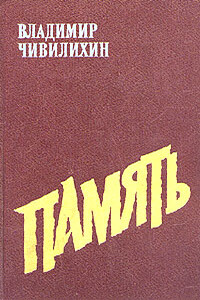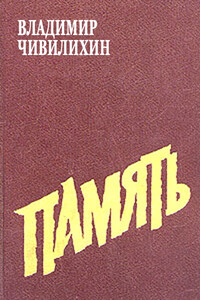Владимир Чивилихин
Здравствуйте, мама!
Обыкновенная хатка - белая, под старой соломой, с подоконным садочком. Тысячу лет живет на этой земле большой и добрый народ, тысячу лет лепит он из глины такие вот естественно простые и по-своему красивые жилища...
Тепло в хате, хотя на дворе мечется осенний ветер. Вокруг городка ровная степь во все концы, и ветры врываются в улицы, лохматят на хатах солому, гнут голые яблоневые ветки, завывают в трубах. Под окнами в наступающих сумерках ветер гоняет, будто стаю летучих мышей, жухлые листья, а тут хорошо, покойно.
Хозяйка сидит напротив меня, отрешенно смотрит в окно, односложно, словно бы нехотя, отвечает на вопросы. В суровых чертах ее лица сквозит какая-то особая, несегодняшняя усталость. Непослушными, в черных трещинах пальцами она поправляет седые пряди на висках, гладит ладонью по столу, будто обирает крошки, трогает бахрому скатерти, а то сложит на коленях эти тяжелые, изработанные руки и замрет.
Спрашиваю:
- Вы знаете, как я услышал о вас?
- Нет.
- Я тут в командировке от газеты. Посылал телеграмму, а девушка на почте говорит, что надо бы написать об Анне Константиновне.
- А зачем?
- Говорит, что письма вам долго шли по адресу: "Город Бахмач. Анне Константиновне".
- И сейчас идут.
- Нельзя ли взглянуть?
- Их много.
- Можно мне... все?
Она с усилием вытащила из-под кровати старый чемодан.
- Тут они.
- Отчего у вас здесь рубец? - спрашиваю я.
На среднем пальце ее правой руки ниже второго сустава - темная круговая мета, будто след от спиленного кольца. Анна Константиновна прячет руку за спину.
- От ножниц.
- Каких ножниц?
- Обыкновенных. Немецкий брезент тогда резала целый месяц. Маскировочный. А он как железо.
- Зачем?
- Тапочки шила, штанишки... Вот и выболело тогда.
Когда - "тогда"? Хозяйка ушла за перегородку, я раскрыл чемодан. Не одна сотня разноцветных конвертов лежала в нем. Тут были и треугольные, памятные нам с военных лет, и склеенные хлебом квадратные - из листочков, разлинованных в косую линейку, и покупные, с марками. Я взял первое письмо; оно, видимо, было получено последним - лежало сверху.
"Дорогая моя подруга и сестра! Нас породнило то время, о котором в теперешней счастливой жизни я так неохотно вспоминаю. Но меня сейчас все чаще расспрашивают обо всем, что тогда было. Я ведь молчала все эти годы, боялась, что не поверят или не поймут. Ваша Валя Прусаков а".
Что же было "тогда"? Тепло в хате и тихо, только царапают окно сухие прутья. Потом я перестал и это слышать. Письма, письма, в которых кричало прошлое...
А как мне рассказать о том, что было? Как заставить читателя поверить в то, во что трудно поверить? Как познакомить его с человеком, жизнь которого потрясла меня своей простотой и святостью? Как поведать о том, что было "тогда", чтобы все поняли, нет, не меня, а ее, Анну Константиновну?
Был уже поздний час, когда я вышел из хаты. Долго бродил по темному городку. Дуло низом и верхом, звезды то разгорались, то притухали. Ветер шипел в плетнях, доносил временами гудки со станции. Было зябко от ветра, остывшей уже земли и холодной полной луны.
Прошел на станцию. Вокзал, пакгаузы, депо, водокачка, забитые вагонами товарные парки. Железная дорога светила огнями, жила - свистели маневровые паровозы, лязгали автосцепкой вагоны, в репродуктор что-то кричал по-украински диспетчер. Прошлое стиралось этим живым движением.
Я снова пересек весь город, вышел на окраину. Степь уходила чернотой из-под ног, лишь кое-где - наверно, на колхозных токах - мерцали далекие огоньки. "Люди, вы помните?.."
Опять город. Длинные улицы с темными окнами были безжизненны. В лунном свете неподвижно торчали по дворам колодезные журавли, над хатами крестили звездное небо телевизионные антенны. Все программы давно кончились, бахмачане уснули...
Улица Войкова. Мимо хаты Анны Константиновны Жованик я прошел к плохонькой гостинице. Лег, но сон не шел. Я понимал ребятишек и взрослых, которые со всех концов страны слали сюда письма с необычным адресом: "Город Бахмач. Анне Константиновне".
Утром я опять был на улице Войкова. Анна Константиновна разлила чай, подвинула варенье.
- Все выросли мои дети. Расцвели, как цветочки... Письма пишут умные, трудные. Другой раз долго думаешь, пока ответишь...
- А Валя Прусакова, от которой это письмо, была одной из воспитательниц? - спросил я.
- Нет. Я была ее, можно сказать, воспитательницей.
- Она пишет - "сестра и подруга"...
- Мы с ней потом уже поравнялись. А после гражданской войны она была в моей пионерской дружине.
- Еще после той?
- Да. Мы, бахмачские комсомольцы, создали тогда первую в городе дружину.
- А что делала ваша дружина?
- Беспризорников ловили в поездах, пристраивали. "Живые газеты" выпускали. По селам ездили с концертами. Опасно было.
- Почему опасно?
- Бандиты овражничали. Но мы с оружием ездили. Один раз обморозились все и, как сейчас помню, стали выступать, а у нас руки перебинтованы и лица в гусином сале. Смех, да и только! Тогда меня просто Гайкой звали...
Она смотрела мимо меня, в окошко. На улице собирались дети, одни крохотные девчоночки, пищали тонкими голосишками, смотрели на наши окна. Анна Константиновна снова заговорила, медленно, с паузами: