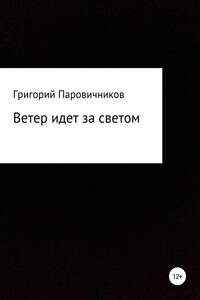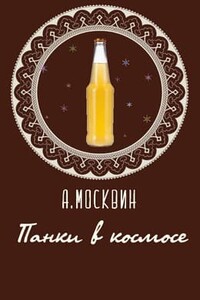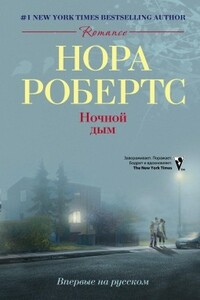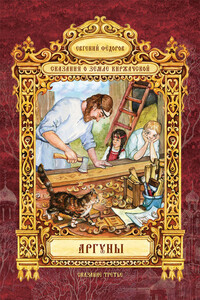Авторы Произведения Рецензии Поиск О портале
Вход для авторов
Замкнутый
Вера Эльберт
С детства ему не везло, – со всех сторон он был окружён близкими, друзьями, учителями и родственниками, которые неизменно придавали дурное значение его словам. Совестливый и деликатный по натуре, он и помыслить не мог о том, чтобы кого-то обидеть, – он боялся этого, как огня, хотя геенной огненной в то безбожное время его никто не пугал. Ему просто говорили, что он не прав, что своими словами он непременно обидел человека, а если тот и не показал, что обижен, то только потому, что достаточно хорошо воспитан для этого.
Дня, часа не проходило, чтобы кто-нибудь из его окружения не сделал ему замечания, начиная от старших родственников и заканчивая младшим братом.
Учителя в этом смысле тоже, словно соревновались друг с другом. Не было оценки, не заниженной из-за того, что он «бубнил», отвечая урок, или сутулился, стоя у доски. Все хотели сделать из него «Человека» (с большой буквы) и каждый обращался к нему свысока и находил повод его поправлять или поучать учительским тоном. Это была какая-то эпидемия «поучения», которой поголовно все окружающие его люди были заражены.
Поначалу, пытаясь хоть как-то оправдать себя в их глазах, он иногда с ними ещё разговаривал, ужасаясь при виде того, как они взрываются от раздражения и заходятся в истерике после первых же его слов. Потом, понимая, каких трудов стоит им успокоиться, перестал с ними разговаривать из деликатности. Он пользовался минимальным набором слов, исключающих продолжение общения, ничего о себе не рассказывал, но сам внимательно наблюдал за их поведением, осуждал их и старался себя убедить, что не очень-то дорожит их мнением и оценкой.
Больше всего в них его раздражало то, что вместе со злонамеренным значением его слов, действий и мыслей, они приписывали ему и какой-нибудь диагноз, обвиняя его и в эгоизме, и в мизантропии, и ещё во многом другом, на что хватало фантазии и эрудиции. Его возмущало то самомнение, с каким они отмечали каждое его «отклонение от нормы». Общение с ними было для него пыткой, а они словно нарочно провоцировали его на скандал, находя повод для новых придирок.
Его молчание считали «оскорбительным для окружающих», его разговорчивость, которой он время от времени разряжался, устав воздерживаться от общения, объявляли навязчивой и бестактной.
Ему казалось, что он бы ещё вытерпел эти замечания, если бы только они не сопровождались брезгливыми, презрительными гримасами, искажающими эти некогда любимые и дорогие ему лица. Он вспоминал, что такие же гримасы отвращения появляются на лицах многих врачей, лечащих или осматривающих пациентов – стоматологов, пломбирующих больной зуб, или отоларингологов, обнаруживающий покраснение в горле. И его шокировало то, что о его, казалось бы, не имеющих никакого злого умысла в словах или поступках, самые близкие его люди и родственники, которые давно должны были бы научиться его понимать, говорят о нём с такой же брезгливостью и отвращением.
По большому счёту это он должен был обижаться на них на каждом шагу, но он слишком хорошо знал, что своей вины они не признают, а его обвинения перекинут на него самого, приписав ему ещё какой-нибудь диагноз, вроде паранойи или маниакально-депрессивного психоза, поскольку всесторонне униженный и измученный их тотальным террором, он вполне мог проявить черты того или другого заболевания.
Поминутно ожидая града новых нападок и оскорблений, иногда он и вправду начинал чувствовать себя больным, подолгу бывал не расположен к общению и тяготился обществом окружающих, что, в свою очередь, становилось поводом для их нового недовольства.
Отношения с девушками у него не складывались совершенно, к ещё большему отчаянию родственников, мечтавших поскорее сбыть его с рук. С ними он был такой же молчаливый и угрюмый, как и со всеми вокруг. Просить их рассказать о себе он не решался, считая это неделикатным, по той же причине и не решался расспрашивать их вообще о чём бы то ни было. Как назло и девушки ему попадались неразговорчивые, и вскоре он перестал даже с ними знакомиться.
Друзей по интересам у него тоже не было, поскольку любое новое увлечение встречалось его окружением в штыки или сопровождалось замечаниями до такой степени колкими и скептическими, что он и сам начинал испытывать к своим новым занятиям отвращение.
Всё изменилось совершенно случайно, когда он однажды сходил в кино. Старый, английский фильм, поставленный по нескольким пьесам Шекспира, произвёл на него такое ошеломляющее впечатление, что он почувствовал себя пленником свалившегося на него непомерно большого объёма чрезвычайно захватывающей информации.
С этой минуты он больше не мог молчать. Он стал невероятно общительным. При каждом удобном случае он не переставая говорил об этом фильме, об исторических событиях, представленных в нём, об актёрах, снимавшихся в главных ролях, о пьесах Шекспира, на которых был основан сюжет.