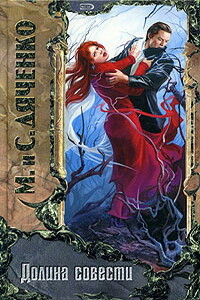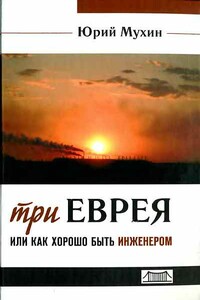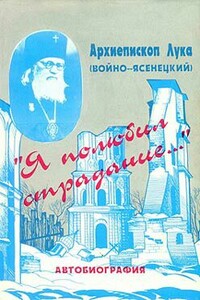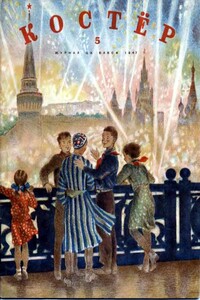Михаил Никифорович Катков
Заметка для издателя "Колокола"
Несколько слов, сказанных вами в Современной летописи о лондонских страдальцах за Русскую землю, дошли по адресу. Один из наших заграничных корреспондентов сообщил нам выдержку из Колокола, где напечатан один отзыв, а на этих днях получили мы из Лондона, как надобно думать от самого издателя, последний номер этой газеты с новым отзывом. Мы радуемся открывшейся возможности поговорить с г. Герценом. Мы давно этого добивались, но до последнего времени он был для русской литературы неприкосновенной святыней, более, чем все потентанты мира, так что мы должны были ограничиваться лишь очень отдаленными намеками, которые, вероятно, и не удостаивались счастья быть им замеченными. Нас еще затрудняло и то обстоятельство, что публика у нас с ним разная; но в этой беде он нам сам помог. Он вдруг заговорил о нас и о наших мнениях, обидевшись тем, что мы не придаем значения нашим политическим партиям, и гневно указывал нам на недавние жертвы политической агитации, попавшие в казематы и Сибирь. Он полагал, что слово останется за ним, а нам говорить о нем не позволят, однако ж нам удалось при случае сказать словцо о "свободном артисте", который сам сидит в безопасности, а других посылает на подвиги, ведущие их в казематы и Сибирь. Это и удивило, и раздражило его, и удивление его высказалось так же наивно, как и раздражение.
Он уверяет, что никого не подущал, и говорит о каких-то сплетнях, ходивших в Москве, о каких-то голубых утках, выражаясь совершенно непонятными для нас намеками. Он предполагает, что мы следили за его особой, за его частными отношениями и ловили сплетни о нем. Никаких сплетен о нем до нас не доходило, ни о каких его личных отношениях мы не говорили, да и говорить бы не стали. До него лично нам нет ни малейшего дела. С кем именно он находится в сношениях, кого именно подущает, — обо всем этом мы никогда не справлялись. Мы говорили о деле открытом; мы имели в виду его публичную деятельность, которая ни для кого не тайна. Этот остряк, говорящий обо всем не иначе, как с плеча и фигурами, требует скрупулезнейшей бережности в выражениях, когда речь касается его.
Итак, он умывает руки и объявляет, что он ничему не причастен, что его дело сторона и что мы написали извет на него, донос в III Отделение. Сколько благородства в этих оправданиях и сколько смысла в этих обвинениях! Он ничему не причастен, он никого не подущает!.. Да что же он делает в своих лондонских листках? Что же он делает, как не агитацию самую поджигательную? Он забыл, что его писания расходятся по свету, что сам же он принимает деятельные меры к распространению их, что они как запрещенная вещь читаются с жадностью и как запрещенная вещь не встречают себе никакого отпора в беззащитных, незрелых и расстроенных умах, и увлекают их к подражанию, — и эти люди делают у себя на родине то самое, что делает он в Лондоне; только он делает это комфортабельно и спокойно, сыто и весело, а они подвергаются безумной опасности и попадают на каторгу. Он не пойдет в Сибирь; но зато он будет встречать и провожать рукоплесканиями этих бедных актеров, которые разыгрывают его штуки на родине; он будет с озлоблением шикать на тех, кто попытается образумить их отрезвляющим словом.
Он гордится тем, что пишет на полной свободе, и объявляет себя единственным представителем свободного русского слова. Он язвит нас тем, что мы писатели подцензурные, и ставит это обстоятельство в вину нам. Он — представитель свободного русского слова! Однако хорошо же это русское свободное слово! Стоило же за этим словом ехать в Лондон! Нет, он ошибается: его слово не похоже на слово свободного человека. Свобода обязывает! — обязывает пуще, чем все другое. Ни на каком из цивилизованных языков невозможно было бы передать всей прелести его тона и его выражения. Он сам это чувствует, и когда ему приходилось передавать на другом языке то, что прежде было сказано им по-русски, то фраза его оглаживалась и принимала более благоприличный вид.
Он пишет не "под сурдинкой", он этим хвастает перед нами. Что он уехал за границу, что он поселился в Англии, что у него есть деньги, в этом он полагает свою нравственную заслугу и этим он гордится. Он полагает свою заслугу в том, что пишет и печатает не только без всякой цензуры, но и без всякой ответственности, ничем не рискуя. Но что же он пишет? Как воспользовался он своим положением? Он говорит: "Если мы сбивались с пути, — отчего вы нам не указывали его?" А зачем же он хвастается свободой своего слова? Если свобода не указывала ему путей, зачем же ушел он из-под цензуры? Но и пробовали ему указывать; только пользы от этого не было. Кстати: пишущий эти строки еще три года тому назад в бытность свою в Лондоне встретился с этими господами в одном доме, как со старыми знакомыми, из которых с одним был довольно близок в молодости. Перед своим отъездом из Лондона он заглянул к ним — не без некоторой наивной надежды перемолвиться с ними добрым словом об их направлении. Но с самого начала он увидел всю тщету своей надежды, и разговор их ограничился общими местами.