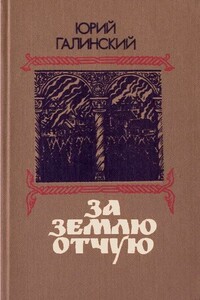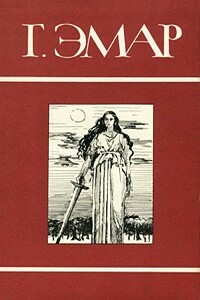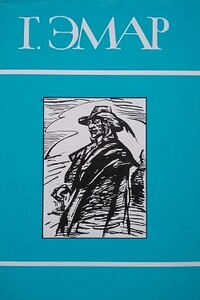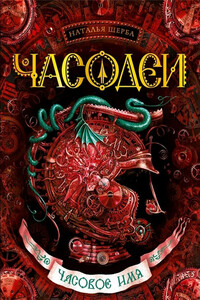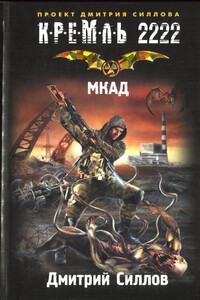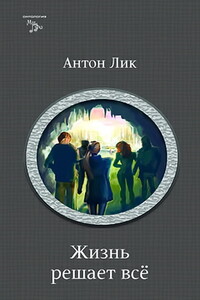Из Кремля их повезли по Никольской улице Великого посада. Большая телега, которую тащили две низкорослые лошади, была окружена конными дружинниками великого князя Московского. В ней находились двое, руки у обоих были связаны за спиной. Один — молодой, угрюмо насупив рыжевато-белесые брови, сидел недвижимо, светлые глаза его, казалось, застыли. Второй — в годах, со свалявшимися седыми волосами и бородой, тревожно вертел головой по сторонам, бросая на стоявших вдоль улицы людей растерянные взгляды.
На Кучковом поле, куда наконец дотащилась телега, высился свежесрубленный помост. Вокруг него стояла конная и пешая стража в темных кафтанах и блестящих шлемах с высокими навершиями, с мечами в ножнах и копьями в руках. По всему полю пестря разноцветными одеждами толпился московский люд: бояре и боярыни в опашенях[1] и летниках[2], ремесленники и торговцы в зипунах и кафтанах, бабы в сарафанах и душегреях, монахи в рясах и нищие.
На небе клубились тяжелые осенние тучи, моросил холодный дождь. Было серо, пасмурно и тоскливо. Народ замер в тягостном, настороженном молчании. Такого на Москве еще не бывало. Впервые на миру, на людях должна свершиться казнь. И не каких-то там разбойников-душегубцев, а одного из первых бояр московских — Ивана Васильевича Вельяминова, сына последнего московского тысяцкого, главы московской земщины Василия Васильевича, который умер несколько лет назад. Второй осужденный — Некомат, сурожанин[3], богатый московский купец, друг покойного тысяцкого. Великий князь Московский Дмитрий Иванович обвинил их в измене и приговорил к смерти.
И вот на Кучковом поле появились великий князь и его брат Владимир Андреевич Серпуховский с ближними боярами. Велено было начать казнь. Некомата повели первым. Он шел, не сопротивляясь, едва передвигая ноги, в одной разодранной до пояса рубахе и дрожал от холода и страха. До самого помоста Некомат кое-как держался, но когда поп торопливой скороговоркой отпустил ему грехи, а подручные палача взялись натягивать на его голову мешок, заскулил на все поле, громко и протяжно. Раздался глухой удар топора, плаха окрасилась кровью…
Пришел черед Ивана Васильевича. Он шагал в окружении княжеских дружинников, высоко подняв голову, глаза его не отрывались от плахи. Быстро взошел на помост, оттолкнув плечами стражу, закричал громко:
— Не за свою обиду я крамолу против князя Дмитрия ковал! Не потому, что не дал мне Дмитрий стать по праву московским тысяцким, когда преставился мой батюшка!..
На него набросились несколько человек, схватили, поволокли к плахе. Народ зароптал, в разных концах Кучкова поля заголосили бабы, толпа пришла в грозное движение. Стражники обнажили мечи, выставили копья.
На какой-то миг Вельяминов уже у самой плахи снова сумел вскочить на ноги, истошно воскликнул:
— За права и вольности ваши, москвичи!..
Его повалили на помост, прижав лицом к доскам, крепко держали, пока поп читал молитву. Но, когда стали надевать мешок, он опять успел выкрикнуть:
— За вас, москвичи, смерть принимаю!..
И тут какой-то чернобородый монах в надвинутом на глазах капюшоне, проскочив между двумя стражниками, вдруг ринулся к помосту…
— Я с тобой, Иван Василич!
Богатырского сложения дружинник метнулся за ним, тяжелая рука камнем упала на плечо чернеца, схватила его, будто мальчонку.
— Не дурствуй, отче, так и голову потерять можно.
— Держи его крепко: должно, лазутчик вельяминовский! — заметил второй воин с большим шрамом через всю щеку. Но богатырь, что схватил чернеца, шепнул ему в самое ухо: «Беги, отче!..» — и незаметно оттолкнул в толпу…
Сверкнул взнесенный в руках палача топор — и окровавленная голова Ивана Васильевича Вельяминова скатилась на помост.
Отовсюду послышались негодующие возгласы, жалостливые восклицания, громкий женский плач.
Уже совсем рассвело, когда Федор выехал к берегу Оки. Под утренним ветерком шумел лес, в лучах солнца серебрились на листьях капли дождя. Барабанил по мокрой коре дятел, заливалась иволга. Река неслышно плескалась опустынный берег, поросший ивами. Крутой склон не позволял спуститься к воде, а брод, которым дозорные вчера переправились через Оку, лежал дальше, вниз по течению.
Конь устал, не слушал поводьев. Всадник нехотя спешился, отпустил подпругу, засыпал из переметной сумы в торбу овес. Лишь после этого снял шлем и мокрый после ночного ливня кафтан, насухо вытер меч и кинжал. Не спеша развесил сушить на кусте орешника одежду, покусывая травинку, присел на поваленную буреломом сосну. На душе у Федора было неспокойно.
Накануне под вечер они с напарником видели ордынский отряд с проводником — боярином рязанским. Встревоженные порубежники решили разделиться — старший по дозору направился в разведку на полдень, Федор должен был возвратиться в Коломну, чтобы предупредить воеводу об ордынцах. Дозорные были из сторожевой станицы, которая несколько дней назад покинула город.
Минуло два года после Куликовой битвы, в которой русские рати под началом великого князя Московского Дмитрия Ивановича разгромили полчища Золотой Орды, возглавляемые Мамаем. По всем южным рубежам Московского княжества стали воздвигаться сторожевые укрепления — заслоны от набегов врагов. В острогах за частоколами и рвами располагалась дозорная стража. Два раза в месяц, не глядя на зной, мороз, распутицу, открывались ворота острогов, выпуская сторожевой отряд в тридцать-сорок конных воинов. Разбившись по двое, они направлялись нести порубежную службу. Иногда скрытно переправлялись через Оку — на правом берегу реки уже начинались земли великого княжества Рязанского, соперника Москвы, — это было связано с риском и доверялось только храбрым, надежным людям. Таким считался и порубежник Федор. Где только не приходилось ему сражаться с ордынцами! Под Булгарами, на Пьяне и Воже, с Мамаем на Куликовом поле. В Коломне, через которую лежал путь Федора, когда возвращался после Куликовской битвы, он узнал, что в острог набирают охочих людей служить на порубежъе, да там и остался…