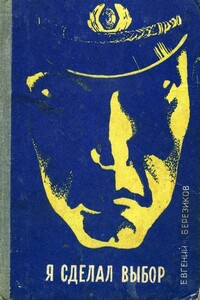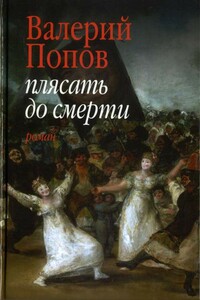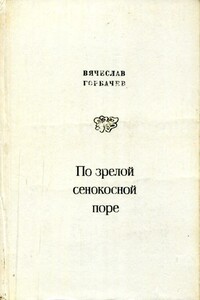Никто не знает, почему река впадает в реку, а та в море, и никто не может изменить путь воды. Но русские пришли в тундру и на первой реке построили город. Они дали городу хорошее имя — Барахсан, что значит радость и счастье жизни, и сказали: а теперь сделаем здесь море!.. И старый охотник-нганасан Касенду Вантуляку смеялся над ними: как остановят реку, когда даже скалы Большого Порога не удержали ее?..
Касенду Вантуляку думал о мудрости предков. Они умели вложить в свои наставления и заветы такую силу, что из тьмы далеких веков слова их дошли ясными до нынешнего дня и такими же уйдут в завтра.
Пой хвалу тому ветру, который несет твой парус, — говорила одна из пословиц. И она хранила в себе мудрость многочисленного когда-то народа, истаявшего по дороге Времени и Истории, как тает по весне глубокий снег в тундре, — только рыхлые лоскуты его остаются в сумрачных складках гор. В памяти поколений стерлось имя изрекшего эту истину, которая и теперь поучала нганасана не столько противоборству, сколько наивной хитрости и долготерпенью жизни. Да ведь и как иначе?! Распростершийся под небом полуночи Край Льдов и Мрака редко милостив к человеку; горе тому — «ямалы, кумансей!»[1] — кто не признавал его извечного владычества!..
С мудрым покорством судьбе и настойчивостью, достойной удивления и похвалы, поучал Вантуляку юное племя древним законам рода, но чем дальше, тем больше речения предков становились не понятными им, и Вантуляку, избегая неясностей древнего слога, терпеливо втолковывал, что нганасан, прежде чем отправиться в путь, должен восславить и благословить дело, которое задумал исполнить, и путь, по которому должен идти.
От рода к роду непререкаемо соблюдался этот завет, однако похоже на то, что Касенду стал его последним хранителем, хотя были у Вантуляку и сыны, и внуки, и у внуков свои сыновья.
Народ Вантуляку, насчитывающий всего несколько сот человек, когда-то заселял бескрайнюю и безбрежную, как океан, Таймырскую тундру — от Енисея на западе до Хатанги на востоке. Многоводная Пясина, или Нямы — мать-река, кормила рыбой, тайга и тундра давали оленя — несущего жизнь, много пушного зверя и птицы. Но страшны и необоримы злоба и гнев многочисленных койка — идолов, насылавших на нганасан повальные болезни, голод и мор, бескормицу на оленей и лихие ненастья. За тысячу лет ненасытные койка погубили тысячу тысяч его соплеменников, кажется, уже и имя последнего нганасана должно было исчезнуть с земли, этой холодной и неприветливой их владычицы, но маленькие нганасаны оставляли и оставляли в тундре свое семя, готовые скорее погибнуть здесь, чем уйти в чужие, обжитые дали.
Еще дед старого Вантуляку говорил ему, словно считывая с листа книги великую тайну нганасанского рода, что черный закат ожидает Касенду на склоне жизни, — быть может, он, Касенду Вантуляку, будет последним из нганасан, которому никто не закроет глаза и не будет рядом сородича, чтобы тело его предать погребению. Вантуляку и верил, и не верил этому жуткому предсказанию, освященному заклинаньями древнего предка, но повальная чума год за годом без стрелы и пули выкашивала оленьи стада, редели чумы в стойбищах, и, видя это, помудревший от седин Касенду в конце концов смирился с суровым и непреложным, как закат солнца, предназначением своей судьбы. Если что и поддерживало силы слабеющего Касенду, так это одно только, что ему нельзя было умереть прежде других, и потому он жил: ведь еще кочевали, кочевали по тундре редкие нганасанские чумы, и он долго и терпеливо ждал полного людского безмолвия, какое бывает в черную ночь, когда устают дуть ветры севера и снежные тучи пластаются по горным хребтам…
Внешне спокойно, даже равнодушно встречал он смерть близких, и каждому уходящему в иной мир Вантуляку говорил при прощании: «Ждите, и мы придем». Но иногда нечеловеческая тоска охватывала его, он становился на лыжи и, взяв еще дедов лук и колчан с оперенными стрелами, ходил далеко от чума, в нехоженую тайгу, и странно было родичам его, что такой отважный и меткий охотник возвращался назад без добычи. Это было не так. Он выслеживал самого крупного и самого сильного оленя-дикаря — шагжоя — и горячую кровь его приносил в жертву всевидящим койка: примите дар терпящего Вантуляку, и да продлится в счастии род племени моего!.. Молчали всемогущие койка — боги не внемлют рабам, — и так же молча, без тени попрека, ждал Касенду их кары или их чуда.
И долго потом не хотел он верить, что чудо пришло от лёса советы — от русских, установивших советскую власть в Краю Льдов и Мрака. В самый голодный год, когда уже и сам Касенду прощался с родовым стойбищем, лёса советы привезли нганасанам сухой снег — белую муку, — и нганасаны стали варить похлебку и есть хлеб, и у них снова стали рождаться дети, только ноги у них, как заметил придирчивый Вантуляку, были шибко тонкие и длинные, но это, однако, ничего, рассудил он, быстро бегать будут. И ныне нганасаны слыли гордым и независимым народом, разве только некоторые из них были замкнуты и угрюмы, как в печальной древности от тяжелых дум, но это были все старики, такие же, как Касенду, еще не верившие в конец койка. Зато сам Касенду Вантуляку если не беззаботно, то, во всяком случае, легко принял новый порядок — закон лёса о старых его приятелях койка. Вантуляку не говорил, как молодые, что койка теперь совсем нет, однако, рассуждал он, видно, лёса советы сильней койка и те теперь служат им, как когда-то сам нганасан служил койка. Все это значило для Вантуляку, что на старых пепелищах вновь загорятся костры, поднимутся высокие дымы и будет много свадеб и веселых плясок.