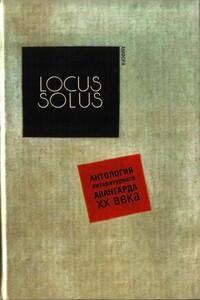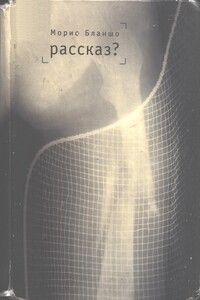Морис Бланшо
Взгляд Орфея
Когда Орфей спускается к Эвридике, искусство являет собой власть, перед которой раскрывается ночь. Силой искусства ночь его привечает, становится привечающей близостью, пониманием и согласием первой ночи. Но сошел Орфей к Эвридике: для него Эвридика - предел, которого может достичь искусство; сокрытая под прикрытием имени и покровом вуали, она - та бездонно-темная точка, к которой, похоже, тянутся искусство, желание, смерть и ночь. Она мгновение, когда сущность ночи близится как другая ночь.
Однако деяние Орфея состоит не только в том, чтобы, погружаясь в глубины, обеспечить приближение к этой "точке". Его деяние - про-изведение ее назад к дневному свету, с тем чтобы в свете дня облечь ее в форму, очертания и явь. Орфей может все - только не глядеть прямо на эту "точку", не заглянуть в центр ночи в ночи. Он может спуститься к ней, он может - еще большая власть - привлечь ее к себе и увлечь за собою наверх, но только от нее отвернувшись. Отвернуться - его единственное средство к ней приблизиться: таков раскрывающийся в ночи смысл сокрытия. Но в порыве своего перехода Орфей забывает о произведении, которое должен завершить, забывает с неизбежностью, поскольку главное требование его порыва вовсе не в том, чтобы имелось произведение, но чтобы кто-то предстал перед этой "точкой", ухватил ее сущность там, где она является, где она сущностна и по сути явлена: в сердце ночи.
Греческий миф гласит: в творчестве преуспеешь, лишь если отдашься безмерному опыту глубины (опыту, признававшемуся греками необходимым для созидания; опыту, в котором произведение испытует сама его безмерность) ради него са- мого. Глубина не уступает себя, представая лицом к лицу; она раскрывается, лишь сокрывая себя в произведении. Основной, неумолимый ответ. Но миф указывает также и на то, что Орфею не суждено подчиниться этому последнему закону, - и конечно же, оборачиваясь к Эвридике, Орфей уничтожает произведение, оно тут же разрушается, а Эвридика вновь обращается в тень; под его взглядом сущность ночи раскрывается в своей несущественности. Так он предает и произведение, и Эвридику, и ночь. Но и не обернувшись, он тоже не избежит предательства, выказав неверность по отношению к безмерной и безрассудной силе своего порыва, которая требует Эвридику не в ее дневной истине и обыденном очаровании, а в ночной затемненности, в ее удаленности, с замкнутым телом и запечатанным лицом; к силе, которая взыскует узреть Эвридику, не когда она видима, но когда незрима, и не в близости обыденной жизни, но как чуждость того, что исключает всякую близость, жаждет не оживить ее, но обладать в ней вживе полнотой ее смерти.
Только за этим он и спустился в преисподнюю. Вся слава его творений, вся власть его искусства, само желание счастливой жизни в прекрасной ясности дня принесены в жертву одной-единственной заботе: разглядеть в ночи то, что ночью сокрывается, - иную ночь, являемое сокрытие.
Бесконечно проблематичный порыв, осуждаемый днем как неоправданное безумие либо как искушение чрезмерностью. Для дня сошествие в преисподнюю, порыв к тщете глубин - уже излишество. И Орфей неизбежно пренебрегает законом, воспрещающим ему обернуться, поскольку закон этот нарушен им с первым шагом к царству теней. Отсюда возникает предчувствие, что на самом деле Орфей был все время обращен к Эвридике: он видел ее незримой; к нетронутой прикасался к ней в ее отсутствии тени, в том затененном присутствии, которое не сокрывало ее отсутствия, было присутствием ее бесконечного отсутствия. Не взглянув на нее, он не увлек бы ее к себе, и, несомненно, она - не здесь, да и сам он отсутствует в этом взгляде, не менее мертвый, нежели она, мертвый не безмятежной смертью мира, которая покой, тишина и конец, но той иной смертью, каковая есть смерть без конца, опыт отсутствия конца.
Осуждая затею Орфея, день к тому же упрекает его в явном нетерпении. И ошибка Орфея, похоже, в желании, побуждающем его видеть Эвридику, обладать ею, тогда как ему суждено лишь ее воспевать. Он Орфей лишь в своей песне, отношения с Эвридикой возможны для него только в гимне, он обретает жизнь и истину лишь после стиха и стихом, и Эвридика представляет не что иное, как эту магическую зависимость, обращающую его вне пения в тень, дозволяющую ему быть свободным, живым, исполненным власти только в пространстве, соразмерном Орфею. Да, так оно и есть: только в пении обретает Орфей власть над Эвридикой, но и в песне же Эвридика уже утрачена, а сам Орфей - это расчлененный, рассеянный Орфей, "бесконечно мертвый" Орфей, в какового отныне превращает его сила песни. Он утрачивает Эвридику, поскольку желает ее вне отмеренных песне пределов, и пропадает сам, но это желание, утраченная Эвридика и рассеянный Орфей необходимы песне, как необходим деянию произведения опыт вечного безделья.
Орфей виновен в нетерпении. Его ошибка в том, что он намерен исчерпать бесконечность, что он полагает предел беспредельному, не может без конца поддерживать порыв собственного заблуждения. Нетерпение - ошибка того, кто желает избежать отсутствия времени, терпение же - уловка, попытка подчинить это отсутствие, превращая его в некое иное, иначе отмеряемое время. Но истинное терпение не исключает нетерпения, с которым оно интимно связано; оно есть выстраданное и бесконечно длимое нетерпение. Нетерпение Орфея, стало быть, также и должный порыв: в нем начало того, что станет его страстью, его высочайшим терпением, его бесконечным пребыванием в смерти. Вдохновение