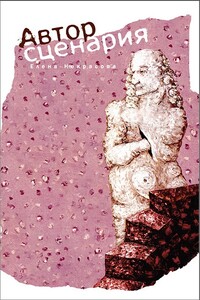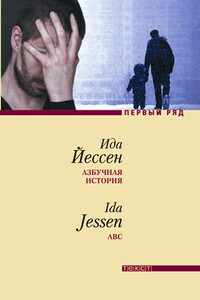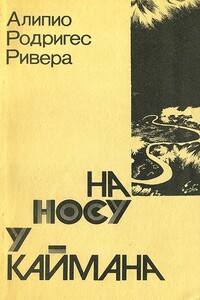— Са-а-ша! Просыпайся. Уже десять.
Я с трудом приоткрыл слипшиеся веки. Декабрьское солнце, тусклое и унылое, искоса заглядывало в комнату, на стенах — серые блики. В дверях неловко переминалась мать.
— Встаешь?
Чуть сутулясь, теребя поясок, она смотрела робко и неуверенно. Еще окончательно не проснувшись, с тяжелой головой, я хмуро отвел взгляд.
— Сейчас встану, — и откинулся на подушку. Вставать не хотелось. От ночной «дозы» мутило, во рту — привычная сухость, зато простыня повлажнела от пота.
Мать просеменила к кровати.
— Ну вставай, Саш. Позавтракать надо. Потом приляжешь опять если что.
Она ласково коснулась моих волос, но я откинул ее руку.
— Не надо этого, мам! — раздраженно повысил я голос. — И… и глупостей этих не люблю!
Ее губы задрожали, а в глазах предательски блеснули слезы, — на лице, сразу осунувшемся, застыло мучительное выражение жалости и обиды. Я скрипнул зубами.
— Ну не обижайся, Саш, — силилась она улыбнуться, — я же просто так.
Я отвернулся к стене.
— Не смотри на меня так! Не надо!
— Всё, всё, — шмыгая носом, она вытерла слезы, — ухожу.
На кухне нудно зашумела плита. Я устало прикрыл глаза. Как всё надоело, быстрее бы уж кончилось…
Болей сильных пока не было — принятое ночью обезболивающее действовало, — и, расслабившись, я тупо пялился в потолок. В ушах, словно заложенных ватой, плыл монотонный гул. Слегка тошнило, голова кружилась, и мысли текли вяло и беспорядочно, пустые и беспредметные, скорее их обрывки. Я не заметил, как впал в странное оцепенение. Мелькали непонятные картины, казалось, я где-то еще: я брел по берегу озера, под ногами хрустела галька, где-то всплескивало, неумолчно трещали цикады, а вокруг сонно ворочалась летняя ночь. Пахло осокой, подгнившим камышом, ветерок качал космы ив, застывших над водой; высоко зависла луна, и бледными искрами терялись в ее свете звезды, — всё дышало миром и спокойствием…
— Са-а-ша!
Я вздрогнул.
— Завтрак готов…
И очнулся. И вновь тоскливый зимний свет, серые стены, а за окном — привычный шум города. Я с раздражением отбросил теплое, пахнущее старостью одеяло и зло выдохнул. Достали! Кое-как натянул брюки, но на рубашку сил уже не хватило. Покачиваясь от слабости, прошаркал в ванную. Включил кран, с отвращением плеснул в лицо холодной водой и зябко поежился. На душе было муторно и тошно. В дверях появилась мать.
— Я там пасту новую купила.
Я посмотрел на полку.
— А зачем? — и зло рассмеялся. — Хочешь, чтоб у меня и в гробу голливудская улыбка была, а?
Мать побледнела, — зажмурив глаза, закусив губы, она попыталась сдержать слезы, но плечи уже затряслись в беззвучных рыданиях. Всхлипнув, она бросилась в комнату, откуда вскоре раздался тихий плач. Я чуть смутился. Зачем я так? Этого не знал я и сам.
Я повернулся к зеркалу — незнакомое, словно чужое лицо: тонкие, почти бескровные губы язвительно кривились, глаза лихорадочно поблескивали, щеки запали, кожа пожелтела.
— Да-а, — протянул я разочарованно, — неважно выглядите, маэстро, неважно…
Не зная зачем, я ухмыльнулся и состроил отражению рожу — оно ответило тем же. Я вздохнул и опустил голову, — на душе стало совсем гадко. Злоба ушла, и осталась лишь пустота. Почему всё так? Так глупо, так тоскливо…
И вновь посмотрел в зеркало.
— Что ж ты мать свою мучаешь, ирод? Разве она виновата?
Отражение погрустнело и покачало головой, но ничего не ответило. Я махнул на него рукой — что с тобой разговаривать!
…Когда доплелся до кухни, мать тихо сидела за столом. Она коротко шмыгнула, голос ее был глух.
— Садись, а то остынет всё.
На меня она не глядела. Я вздохнул.
— Ладно, мам, извини, — и потупился. — Прости, пожалуйста.
Она подняла глаза и слабо, с грустью улыбнулась.
— Я и не обижаюсь. Я всё понимаю, тебе ведь сейчас так… так трудно.
И горестно покачала головой, взгляд ее скользнул куда-то вдаль и застыл.
— Зачем ты отказался? Тогда, осенью, когда не поздно еще было? Ведь Алексей Николаевич тебе всё объяснил! Зачем?!
Я шагнул к ней и молча притянул к себе. Мама, мама…
— Успокойся, мам, — я гладил ее волосы, сильно поседевшие за последние месяцы, — теперь жалеть уже нечего.
Всё стало окончательно ясно только вчера…
… — Что именно? — Алексей Николаевич, убрав анализы, невозмутимо взирал на меня. — Прогноз?
— Да, — я вяло усмехнулся, чуть кривясь от подступавшей временами боли. — Имею же право?
Я сидел в кабинете Алексея Николаевича, приятеля отца, — когда тот был еще жив, они работали в одном отделении, здесь, в онкологии, и в последний год отец с ним, можно сказать, сдружился. Частенько заглядывал к нам и домой, просиживая вечерами, порой допоздна, но со смертью отца посещения почти прекратились. Хорошо ладил Алексей Николаевич и с матерью, хотя я его почему-то недолюбливал и почти не общался.
— Имеешь, — и он с достоинством откинулся на спинку. — Хотя…
— Говорите, не бойтесь, — раздраженно перебил я, — в обморок не упаду. Только честно! Метастазы есть?
Он вздохнул и, запнувшись, кивнул.
— Да, пошли.
— Значит, всё?
— Ну, как тебе сказать… — Алексей Николаевич уклончиво помялся, и его рыхлое полноватое тело колыхнулось. — Опухоль уже, да, в целом неоперабельна. Но я ведь предупреждал, тогда еще. Но ты сам всё решил. Что я мог сделать? А в сентябре у тебя еще были шансы: опухоль-то не самой агрессивной формы…