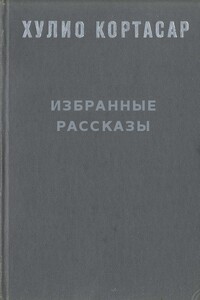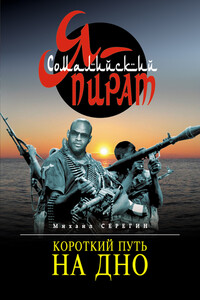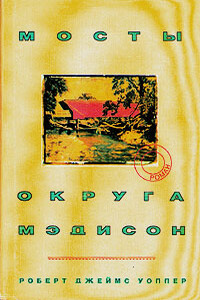— Убери каску с нашего стола! Ей здесь не место, как и тебе!
Моя каска летит в угол на грязную ветошь. Личные вещи на стол действительно класть не принято, но все это делают, переодеваясь, потому как сразу по возвращении положить их просто некуда. Но я, на взгляд немца Даниеля, не все.
Тупая злоба в глазах этого наглого дерганого юнца тут же заставляет озвереть и меня. Перед глазами всплывают красные мушки, и в ушах нарастает металлический звон.
Территориальный инстинкт. Хроническая болезнь германцев. Когда в маленьком тесном вагончике размером два на семь вынуждены переодеваться, пить чай и курить одновременно двадцать два человека, она переходит в стадию обострения. Немцы всего лишь поколение назад еще были аграриями, и среднестатистический немец всегда напоминает мне медвежонка из мультфильма, который с бурчанием «мое» прячет от веселой белки корзину малины. Но этот наглец Даниель — не медвежонок. Скорее молодой волчара, недавний недопесок, почувствовавший себя на тропе охоты. И его поведение — отражение настроения, витающего в рабочем вагончике уже несколько дней.
Когда я, только устроившись на эту работу, вошел сюда впервые, сразу вспомнил армию, солдатский госпиталь и прочую дрянь. Вагончик был разделен невидимой преградой на «чистую» половину и «грязную». В «чистой» стояли удобные скамейки с накиданными на них подушками и большой белый стол возле холодильника. Соответственно, микроволновая печь, радио и даже обогреватель находились на уютной «чистой» половине. Она принадлежала коренным немцам. Иностранная рабочая сила в лице немолодого затюканного турка Хуссейна и горстки югославских рабочих из вспомогательной фирмы ютилась в «грязном» углу, где не было ничего, кроме деревянных ящиков, поставленных один на другой, и окошка с выбитым на четверть стеклом.
На меня смотрели несколько пар глаз. В некоторых читались настороженность и холодность, в других — обреченный пофигизм. Я подчеркнуто сел один. На обжитые места немцев не претендую, но и в «загон для скота» не пойду. Соответственно, и отношение ко мне формировалось достаточно долго: с одной стороны, я несомненный чужак, с другой — не веду себя соответствующе этому виду рода человеческого, и язык мой немецкий вполне сносен. Поэтому, хотя за своего и не принимали, никто не смел после смены, когда все рабочие, потные, уставшие и злые, собираются в вагончике, метнуть мне ключи с криком: «Чего расселся? Иди дверь в контейнер закрой!», как Хуссейну, хотя он устал не меньше других. Хуссейн, проходя тогда возле меня, тихо сказал: «Пойдем со мной, поможешь», — но я не шевельнулся. И все это видели. И это было важно.
Потерянный статус не возвращается никогда — закон любого мужского коллектива. Так что прости меня, Хуссейн, но пойти с тобой означало признать равенство нашего положения, и в следующий раз ключи полетели бы в меня.
Где бы я ни работал — а ведь прошел путь от помощника на кухне до учредителя фирмы, — такой явной и открытой сегрегации по национальному признаку больше не встречал. Может быть, и потому, что впервые в Германии попал в коллектив совершенно мужской, закрытый, годами занимающийся тяжелым физическим трудом и оттого мрачно — угрюмый, являющийся носителем соответствующего культурного уровня. Про такой и говорил профессор Преображенский: «Я не люблю пролетариат». Что ж, надо знать и эту сторону германской жизни.
Так тянулось почти месяц: турки и югославы в своем углу, немцы — в своем, а я сам по себе.
Неожиданно неделю назад все изменилось. Пришла проверка из «охраны здоровья», и фирме вставили пистон за то, что курящие и некурящие рабочие вынуждены сидеть вместе. Закон есть закон. Начальство обязали выделить курящим закуток с надписью «Раухерэкке». Как назло, им стал тот самый грязный угол из‑за наличия окна. И началось!
Коренным немцам пришлось сидеть вперемежку с дикими иностранцами, ни слова не говорящими на единственно человеческом, то есть немецком, языке. Да еще и в замызганном углу, где задница, за долгие годы уже принявшая форму привычного мягкого сиденья, вынуждена довольствоваться ящиком из‑под овощей!
Нервы в последние дни у всех накалены до такой степени, что, кажется, электричество в вагончике не нужно: втыкай штекер в прокуренный воздух, и закипит чайник. Можно украсть у немца новые штаны, отбить подружку — он стерпит. Но нельзя покушаться на привычное. Это катастрофа, крушение жизни и удар несправедливой судьбы в промежность. А кто виноват? Для немецких работяг, простых, грубых, одинаковых на каждой фабрике, в каждом вечернем пивбаре, добродушных после третьей пивной кружки и высокомерно жестоких в стае; для работяг, вымотавшихся за одиннадцатичасовой рабочий день в горячем цеху и озлобленных бредовой политикой Шредера, не привыкших к резко и безвозвратно упавшему уровню жизни, — кто виноват? Конечно, понаехавшие иностранцы. Я — типичный представитель.
А теперь еще и каску свою кладу на их чистый стол!
«Не место, как и тебе!» Эх, что ж я не в Союзе? Вытянуть бы тебя сейчас, щенка, за грудки прямо через стол, да колено навстречу! М-м-мх-х… По притягательности такая минута может поспорить с любовной.