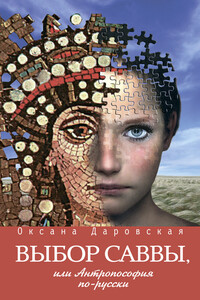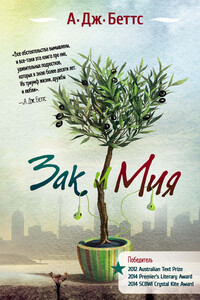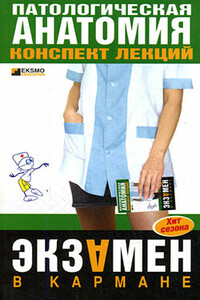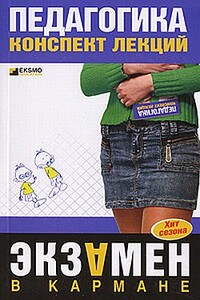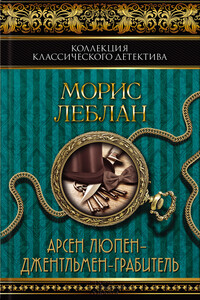В темень январского утра вполз телефонный звонок. «Кому неймется», – сквозь сон разозлился доктор, неохотно выпростал из-под одеяла руку, потянулся к тумбочке. «Слушаю» получилось хриплым, приправленным недовольным откашливанием. Из трубки зажурчал женский с придыханиями голос:
– Здравствуйте, доктор, мне посоветовали… обратиться именно к вам, я хочу… мне нужно приехать на консультацию.
– Кто посоветовал? Что у вас? – спросил он, садясь в постели и выдергивая из пачки сигарету.
– Можно не по телефону, пожалуйста, назначьте время… я расскажу при встрече… мне очень надо.
«Надо ей… какая-нибудь очередная истеричная дура или нахалка «vulgaris», – делая глубокую затяжку, про себя предположил доктор, а в трубку сказал:
– Завтра в одиннадцать, пишите адрес. – Он сурово продиктовал адресные данные, назвал стоимость приема.
Его раздражали глупые суетные бабы, хотя слишком умные раздражали еще больше. Он предпочитал иметь дело с детьми, иногда с мужчинами, в крайнем случае с безропотными, послушными женщинами, стесняющимися задавать лишние, на его взгляд, наводящие вопросы. Однако врачебная этика принуждала лечить всех страждущих без разбора, невзирая на специфику ума и половую принадлежность.
Доктор смолоду не отличался ни особыми политесами, ни умозрительной любовью к человечеству в целом, хотя был по-своему привязан к отдельным его представителям. Он вовсе не являлся мизантропом, просто, в отличие от многих, позволял себе определенную открытость чувств. Ну а по гамбургскому счету – все чаще в последние годы возникало желание оставаться наедине с собой.
Сон окончательно ушел, он выбрался из постели и тихонько отправился на кухню варить кофе. На седьмом десятке он относился к себе совсем не бережливо, много курил – в том числе натощак, потреблял крепкий кофе, из спиртных напитков уважал исключительно водку.
В соседней комнате спала его вторая и очень давнишняя жена Ирина. Она преподавала в школе для детей с ограниченными возможностями и в любой другой день почти выходила бы в это время на работу, но сейчас шла пора зимних каникул. Доктор берег ее утренний сон – пусть отсыпается, отдыхает от безобидных с виду, а на деле высасывающих все душевные и физические соки, обделенных судьбой чад.
Он был невеликого роста, со смешным плотным животиком, с вечно неприбранной шевелюрой – желтовато-серые, словно подпаленные огнем, похожие на лежалое сено волосы не слушались, не хотели прилегать к макушке, топорщились клоками в разные стороны. Выражение его лица с бесконтрольно оттопыренными губами бывало обычно недовольным, недоверчиво-хмурым. Когда ныла больная с юности нога, он прихрамывал и смотрелся слегка несчастным. Одевался доктор весьма скромно. Встретив такого на улице, даже не остановишь взгляда, мимоходом же зацепив зрением, равнодушно проследуешь дальше и через минуту не вспомнишь, как выглядел.
* * *
Пациентка соблюла договоренность, приехала на следующий день ровно к одиннадцати. До нее он уже успел принять одного больного и находился в рабочем тонусе. Но сейчас предстояла перенастройка на другое человеческое существо.
Молодая женщина – лет тридцати, не больше. Пока снимала в прихожей зимние вещи, его взгляд отметил чрезмерную худосочность тела, скрытую нервозную напряженность движений. Он проводил ее в комнату, усадил на диван, сел на привычное рабочее место к компьютеру. Подробные данные обо всех больных обязательно заносились им в компьютерную базу.
Доктор Савва Алексеевич Андреев давно отошел от кондово-традиционной официальной медицины. За исключением редких эпизодов, он не лечил аллопатической химией, хотя имел изначальную специальность врача-пульмонолога с богатой в свое время больничной и преподавательской практикой.
По душевно-умственному складу, по внутреннему ощущению и знанию запутанной человеческой природы, по обильному практическому опыту последних пятнадцати лет, в корне изменивших основы его бытия, он являлся врачом-антропософом, кроме стен клиники, принимающим и дома.
Оторвавшись от компьютера, он велел ей раздеться до трусов и лифчика, внимательно, без комментариев, осмотрел и ощупал ее тело от шеи до самых ступней. Сухо сказал «одевайтесь». Затем в ход пошли многочисленные коронные вопросы, на непросвещенный взгляд не касающиеся болезни как таковой. Вопросы, что называется, были «за жизнь». Пациентка смотрела на него во все глаза – впилась взором ему в лицо и уже не отпускала, не снимала с прицела светлых страдальческих глаз. Боялась утратить незримую связь. Звали ее Вера. Она болела тяжелым гайморитом и не могла нормально дышать. От гайморита еще никто не умер, разве что от запущенных осложнений, и то в редчайших случаях, но дыхание оборачивается для таких больных мучительным испытанием. А значит, и сама жизнь превращается в смертную, удушливую муку. И была пациентка, по впечатлению Саввы Алексеевича, словно окаменелая, затвердевшая, заиндевевшая – как выброшенное на мороз, беззащитное тонкокожее летнее яблоко.