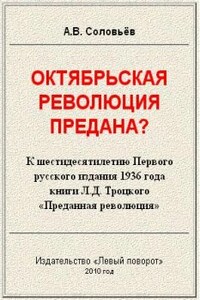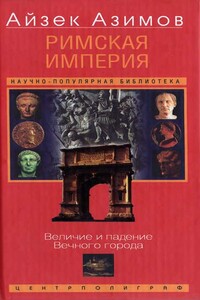Эдуард Белтов
ВТОРОЙ ФРОНТ ИОСИФА СТАЛИНА
Памяти Николая и Михаила Белтовых,
солдат Большой войны,
с той войны не вернувшихся
От автора
Не нами сказано: познания умножают скорби. Так чего же мы, грешные, угомониться не можем и в стремлении своем к познанию калечим собственные и окружающих души, без конца тревожа их горькой, а чаще - страшной правдой об историческом катаклизме, который в стране, где мы родились, выросли и возмужали, именуется (и видит Бог - не без причины) Великой Отечественной войной? Ужели мало нам, ту войну пережившим, и этих цифр, и фактов этих, от которых и сейчас, через шестьдесят лет, душа застывает в оцепенении, а мозг по-прежнему не в состоянии понять, а не поняв - и объяснить того, что тогда произошло?
Работал я в свое время в отделе фотожурналистики журнала "Советское фото" (а недолгое время даже и заведовал этим отделом). Знал я, разумеется, и практически всех ветеранов советского фоторепортажа, людей совершенно необычных, если не сказать - замечательных. Того, что видели и знали они, без конца мотавшиеся по поистине необъятным просторам Союза, не видел и не знал больше никто. Другое дело - могли ли они показать и рассказать правду о том, что видели. И то, что они, конечно же, не могли этого сделать, страшно их печалило, и в застольных наших беседах именно это было главным. И всякий раз, когда в День победы собирались у нас в редакции бывшие военные фоторепортеры, разговор заходил, как правило, не о том, что удалось им снять в войну, а о том как раз - чего не удалось. Помню, как, услышав мои сетования на то, что, просматривая газеты первых месяцев войны, я не обнаружил в них практически никаких фотодокументов о тех страшных днях, Яков Рюмкин, человек веселый и бесстрашный, посмотрел на меня, как смотрят на Богом обиженного, и сказал:
- А их и не было, этих, как вы их называете, фотодокументов. Потому что драпали так, что и сказать страшно. И ничего было нельзя. Ничего! Скажем, наши старые танки нельзя было снимать потому, что они были старые. А новые потому, что они были новые. А подбитые немецкие танки вообще снять было невозможно - их просто никто не видел. В "Живых и мертвых" у Симонова фоторепортер Мишка Вайнштейн - реальное, между прочим, лицо, фотокор "Правды" - прыгает от радости, что сможет это сделать, комбриг Серпилин с его ребятами постарались, и вот они: снимай - не хочу. Так это же в окружении было, понимаете, в окружении! И никто этих танков так никогда и не увидел, потому что репортер погиб, а пленка пропала. Вполне жизненная история...
И другой Яков - милый и, увы, тоже уже покойный Яша Халип - встрял в этот памятный для меня разговор:
- И вообще в летние месяцы сорок первого практически никто из фоторепортеров на передовой ничего не снимал, хотя бы потому, что само по себе понятие передовой было в высшей степени условным. Утром, скажем, это действительно была передовая, а вечером, глядишь, уже глубокий тыл. Поэтому и снимать приходилось какую-то другую войну, и главными тогда были сюжеты вроде "Отдых после боя" иди еще что-то вроде этого. И, раз уж к слову пришлось, замечу, что знаменитая фотография Макса Альперта, которую стали называть "Комбат" и которая стала в полном смысле слова символом сражающейся Красной армии, ну, та, где командир с пистолетом в руке поднимает в атаку бойцов, фотография эта снята в глубоком тылу, на территории Среднеазиатского военного округа - то ли в Ташкенте, то ли в Алма-Ате, я уж теперь не помню. Да об этом никто и не знал тогда, все думали: вот какой отчаянный репортер - в самую гущу боя влез...
- Это ты, Яша, правильно заметил: мы тогда снимали другую войну... сказал Рюмкин, аккуратно обезглавливая вилкой балтийскую салаку, которой мы закусыва ли "наркомовские сто грамм". - И вообще все менялось беспрерывно. Одна история с моей "лейкой", которую я уронил в Сталинграде с третьего этажа, а потом благополучно снимал ею всю войну, чего стоит. Это действительно была "лейка" - настоящая американская, а не ее бледная копия, которая называлась ФЭД, и я действительно по нечаянности уронил ее с третьего этажа, и ничего ей не сделалось, осталась только вмятинка - и все, а она работала как часы. Так вот, всю войну я с гордостью об этом рассказывал и демонстрировал замечательную продукцию наших союзников по антигитлеровской коалиции. А в сорок седьмом я за этот же самый рассказ чуть "червонец" не схлопотал, и только случай меня от Колымы спас, честное слово. В это время уже вовсю сажали за то, что на языке "органов" называлось "преклонение перед иностранной техникой". Если же иметь в виду, что я - еврей, то все эти послевоенные кампании по борьбе с бог знает чем могли бы и по мне проехаться...
При этом разговоре не присутствовал Макс Владимирович Альперт, тот самый, который знаменитого "Комбата" снял, и когда я потом рассказал ему о нашем разговоре и о том, что я, как и многие мои сверстники, многого, слишком многого не знаю о Большой войне, он подтвердил: да, снимок этот сделан в глубоком тылу, и не его, Альперта, вина, что бильдредакторы центральных газет - то ли сами, по своей инициативе, то ли по указанию свыше - никогда о месте и времени стемки не упоминали. Макс Владимирович - худощавым пппгпяяяый и .бесконечно кооректный вый, долговязый и бесконечно корректный в ибщении с собеседником вне всякой зависимости от ранга последнего - был, между прочим, автором самого известного портрета Сталина, того самого, с трубкой (и я, признаюсь, всё-таки выцыганил у него на память этот снимок с его, Макса Владимировича, автографом, который в конце-то концов спер кто-то из многочисленных моих знакомых). Он показал мне и еще с десяток дублей, которые сделал'тогда, в 1935 или 1936 году, и я вынужден был отдать должное вкусу вождя: для публикации он отобрал лучший - это несомненно. Так вот, именно Альперт сказал мне тогда то, чего ради я сегодня, через много лет, и пишу эти строки.