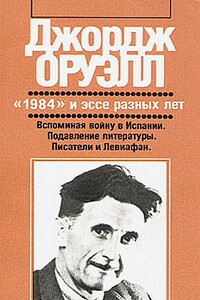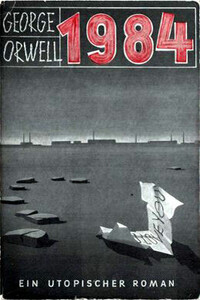I
Прежде всего о том, что запомнилось физически, — о звуках, запахах, зримом облике вещей.
Странно, что живее всего, что было потом на испанской войне, я помню неделю так называемой подготовки, перед тем как нас отправили на фронт, — громадные кавалерийские казармы в Барселоне, продуваемые ветрами денники и мощенные брусчаткой дворы, ледяная вода из колонки, где мы умывались, мерзкая еда, которую сдабривали ложечки вина, девушки в брюках — служащие милиции, рубившие дрова под котел, переклички ранним утром и комическое впечатление, производимое моей простецкой английской фамилией рядом с звучными именами Мануэль Гонсалес, Педро Агилар, Рамон Фенелос, Роке Баластер, Хайме Доменен, Себастиан Вильтрон, Рамон Нуво Босх. Называю именно этих людей, потому что помню каждого из них. За исключением двоих, которые были просто подонками и теперь наверняка со рвением служат у фалангистов, все они, вероятно, погибли. О двоих я это знаю точно. Старшему из них было лет двадцать пять, младшему — шестнадцать.
Одно из существенных воспоминаний о войне — повсюду тебя преследуют отвратительные запахи человеческого происхождения. О сортирах слишком много сказано писавшими про войну, и я бы к этому не возвращался, если бы наш казарменный сортир не внес свою лепту в разрушение моих иллюзий насчет гражданской войны в Испании. Принятое в романских странах устройство уборной, когда надо садиться на корточки, отвратительно даже в лучшем своем исполнении, а наше отхожее место сложили из каких-то полированных камней, и было там до того скользко, что приходилось стараться изо всех сил, чтобы устоять на ногах. К тому же оно всегда оказывалось занято. Память сохранила много другого, столь же отталкивающего, но мысль, потом так часто меня изводившая, впервые мелькнула в этом вот сортире: «Мы солдаты революционной армии, мы защищаем демократию от фашистов, мы на войне, на справедливой войне, а нас заставляют терпеть такое скотство и унижение, словно мы в тюрьме, уж не говоря про буржуазные армии». Впоследствии было немало такого, что способствовало подобным мыслям, — скажем, тоска окопной жизни, когда нас мучил зверский голод, склоки да интриги из-за каких-нибудь объедков, затяжные скандалы, которые вспыхивали между людьми, измученными нехваткой сна.
Сам ужас армейского существования (каждый, кто был солдатом, поймет, что я имею в виду, говоря о всегдашнем ужасе этого существования) остается, в общем-то, одним и тем же, на какую бы войну он ни угодил. Дисциплина — она одинакова во всех армиях. Приказы надо выполнять, а невыполняющих наказывают; между офицером и солдатом возможны лишь отношения начальника и подчиненного. Картина войны, возникающая в таких книгах, как «На Западном фронте без перемен», в общем-то, верна. Визжат пули, воняют трупы, люди, очутившись под огнем, часто пугаются настолько, что мочатся в штаны. Конечно, социальная среда, создающая ту или другую армию, сказывается на методах ее подготовки, на тактике и вообще на эффективности ее действий, а сознание правоты дела, за которое сражается солдат, способно поднять боевой дух, хотя боевитость скорее свойство гражданского населения. (Забывают, что солдат, находящийся где-то поблизости от передовой, обычно слишком голоден и запуган, слишком намерзся, а главное, чересчур изнурен, чтобы думать о политических причинах войны.) Но законы природы неотменимы и для «красной» армии, и для «белой». Вши — это вши, а бомбы — это бомбы, хоть ты и дерешься за самое справедливое дело на свете.
Зачем разъяснять вещи, настолько очевидные? А затем, что и английская, и американская интеллигенция в массе своей явно не представляла их себе и не представляет по-прежнему. У людей короткая память, но оглянитесь чуток назад, полистайте старые номера «Нью массез» или «Дейли уоркер» — на вас обрушится лавина воинственной болтовни, до которой были тогда так охочи наши левые. Сколько там бессмысленных избитых фраз! И какая невообразимая в них тупость! С каким ледяным спокойствием наблюдают из Лондона за бомбежками Мадрида! Я не имею в виду пропагандистов из правого лагеря, всех этих ланнов,[1] гарвинов et hoc genus;[2] о них что и толковать. Но вот люди, которые двадцать лет без передышки твердили, как глупо похваляться воинской «славой», высмеивали россказни об ужасах войны, патриотические чувства, даже просто проявления мужества, — вдруг они начинали писать такое, что, если переменить несколько упомянутых ими имен, решишь, что это — из «Дейли мейл» образца 1918 года. Английская интеллигенция если и верила во что безоговорочно, так это в бессмысленность войны, в то, что она — только горы трупов да вонючие сортиры и что она никогда не может привести ни к чему хорошему. Но те, кто в 1933 году презрительно фыркал, услышав, что при определенных обстоятельствах необходимо сражаться за свою страну, в 1937 году начали клеймить троцкистом и фашистом всякого, кто усомнился бы в абсолютной правдивости статей из «Нью массез», описывающих, как раненые, едва их перевязали, рвутся снова в бой. Причем метаморфоза левой интеллигенции, кричавшей, что «война — это ад», а теперь объявившей, что «война — это дело чести», не только не породила чувства несовместимости подобных лозунгов, но и свершилась без промежуточных стадий. Впоследствии левая интеллигенция по большей части столь же резко меняла свою позицию, и не один раз. Видимо, их очень много, и они составляют основной костяк интеллигенции — те, кто в 1935 году поддерживал декларацию «Корона и страна», два года спустя потребовали «твердой линии» в отношениях с Германией, еще через три присоединились к Национальной конвенции, а сейчас настаивают на открытии второго фронта.