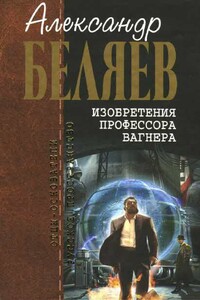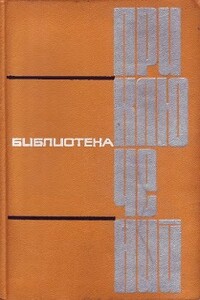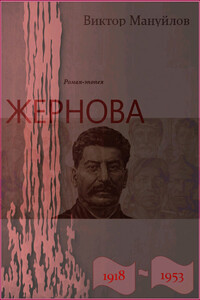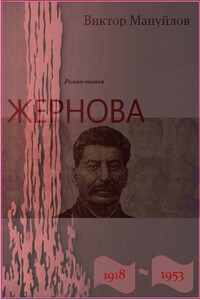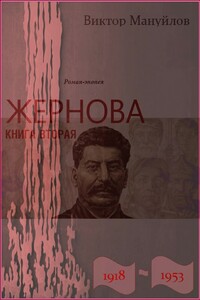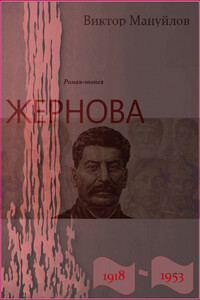Виктор Мануйлов
Вспаханное поле
Перед нами за вытянутой цепочкой молодых елок лежало вспаханное поле. Оно раскинулось километра на два в обе стороны, лоснясь полуразмытыми от постоянных дождей бороздами. Это была обычная для этих мест земля — желтовато-бурый суглинок. Даже на взгляд чувствовалась его вязкая тяжесть.
В ширину поле было с километр, оно почти ровной лентой протянулось вдоль дороги, лишь в одном месте с противоположной стороны в него острым языком вдавался овраг, поросший ольхой и лещиной. А дальше, в чашеобразной низине, лежало озеро, возле которого мы собрались на вечерней зорьке пострелять уток.
Автобус, на котором мы приехали, раскачиваясь на ухабах и подмигивая красными огоньками, уползал в редколесье. Мы явно поспешили покинуть его, хотя трястись по такой дороге — удовольствие не из самых приятных. И все-таки пару километров могли бы и потерпеть. Нас просто сбило с толку озеро: мы как увидели его, так и решили, что хватит, приехали. И только выбравшись из автобуса, поняли, что дали маху. Но автобус уже скрылся из виду, и нам оставалось решить: либо обходить поле по дороге, либо идти напрямик.
— Ну что ж, — сказал я, еще раз оглядывая поле, нет ли где тропинки или какой-нибудь межи. — Вот мы, а вон озеро. Всякая прямая короче кривой.
— Что верно, то верно, — согласился Николай Иванович, мой давнишний приятель. — Еще и Суворов говаривал…
— Тем более что Суворов.
И мы забросили за спину рюкзаки и вступили на вспаханное поле.
Уже метров через сто лицо Николая Ивановича покрылось фиолетовыми пятнами, а из-под финской шапочки по лбу и щекам заструился пот. Вряд ли я выглядел лучше.
— Ничего, ничего, — говорил он, бодрясь. — И не такое бывало.
А идти становилось все труднее. Болотные сапоги быстро обрастали вязким тяжелым панцирем, дрыганье ногами ничего не давало — отвалится разве что маленький кусочек, и тот норовит попасть в лицо. Поднимать ноги стало уже невмоготу и их приходилось волочить, оставляя позади себя корявую борозду. Подошвы то разъезжались на скрытых от глаз откосах под жидким слоем суглинка, то проваливались в ямы и щели, то натыкались на твердые комья или забытые картофелины, и ноги, привыкшие к асфальту, начали дрожать и подкашиваться.
Когда наконец мы добрели до оврага, у нас хватило сил только на то, чтобы, пачкая траву глиной, дотащиться до поваленной ольхи и сбросить рюкзаки. Сидя рядышком и тяжело дыша, мы тупо смотрели на неплотную цепочку молодых елок у дороги, откуда мы пришли, на свои следы, двумя безобразными шрамами легшие на выглаженное дождями поле.
— Как солдаты в атаке, — негромко произнес Николай Иванович, задумчиво крутя между пальцами сухую травинку.
— Кто? — не понял я.
— Я говорю, елки эти очень напоминают цепь солдат, когда они только что поднялись в атаку… Поначалу всегда цепь идет ровно, никто вперед не вырывается, никто не отстает. Это уже потом…
Я пожал плечами: для меня, не воевавшего, елки у дороги были всего лишь елками и ничем больше.
— Когда сюда шли, — снова заговорил Николай Иванович, — я оглянулся… Это вон там, возле лужи. И мне сквозь пот — все как-то, знаешь, нечетко было — вдруг померещилось… ну, что сзади нас цепь немцев — и аж озноб по спине. — Николай Иванович виновато улыбнулся и покачал круглой седой головой. — И это через почти сорок лет… Вот, брат, какие дела бывают.
* * *
«Мне было тогда чуть больше девятнадцати, — начал Николай Иванович свой рассказ, когда, после не слишком удачной охоты, мы сидели в палатке на берегу озера. — К тому времени я успел закончить спецшколу радистов, дважды побывал в тылу у немцев, но самих немцев, как ни странно это может показаться, видел лишь издали. Однако медаль „За отвагу“ у меня уже имелась, и я считал себя бывалым воякой. В конце ноября сорок третьего года меня прикрепили к группе разведчиков-корректировщиков, которые оказались без радиста. Об этих разведчиках у нас ходили слухи самые невероятные.
Дело было в Карпатах, немцы стояли крепко, и наши войска застряли там основательно. Карпаты, конечно, не Кавказ, но я к тому времени горы видел только в кино. И не я один. Помню, офицеры, которые посмелее да поумнее, ворчали, что суворовским солдатам штурмовать Измаил было легче, потому что их к этому готовили, а мы — с равнины и прямо в горы. Конечно, под пулями учиться — дорогое удовольствие: народу там положили прорву. А учителями у нас были немецкие горные егеря, которые тренировались в Альпах, а практику проходили на Кавказе. Но это я сейчас так рассуждаю — задним умом мы все крепки, — а тогда считал, что мы, русские, сильнее всех и егерей этих расколошматим в пух и прах. Молодым, дуракам да пьяным море по колено. А тут дожди зарядили, все размокло, раскисло — не пройти, не проехать…»
В палатке светила лампочка от карманного фонарика, и когда Николай Иванович поднимал голову, вглядываясь в свое далекое прошлое, в его зрачках вспыхивали яркие точки света. По прогнувшемуся верху палатки барабанил дождь, ветер шумел в камышах и голых ветках кустарника, совсем близко от нас тревожно вскрикивали утки. Война была в далеком прошлом, казалась почти выдумкой, чем-то нереальным, как нереальным был весь мир за тонкими полотняными стенками палатки. В такие минуты становишься мистиком, идеалистом, начинаешь верить, что существует лишь то, что ты видишь и слышишь, а все остальное — плод твоего воображения.