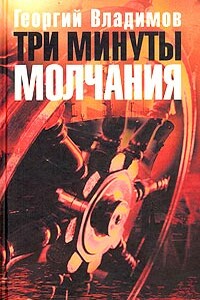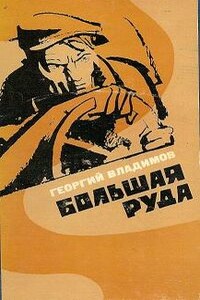Георгий Владимов
Все мы достойны большего
В эту зиму выпало много снега. С тех пор, как Алеша перебрался жить в Шереметьевку, снег падал каждый день. Он опускался хлопьями, сыпал невидимой крупой, летел в конусе фонаря косой мерцающей сетью. И к февралю двоим на тропинке стало не разойтись, им приходилось обниматься, уступивший проваливался выше колена. За стенкой хозяйка объясняла соседке, что нынче перестали испытывать атомные бомбы, все от этого, и сыпать будет до Троицы.
Алеша вставал, когда за окном еще было сине, и выходил в сад обтираться колючим снегом. Но всегда кто-нибудь просыпался раньше - он видел свет в окошках, слышал скрежет шагов и сырые непроспавшиеся голоса. Это спешили к электричке работавшие в Москве. Алеша тоже спешил, но о Москве старался не думать. После зарядки воздух в комнате казался ему слишком теплым и кислым, - он распахивал фортку пошире, натягивал на горящее тело фланелевую ковбойку и принимался готовить на керогазе овсянку и кофе.
Он ел быстро и думал уже о другом. Потом он сдвигал посуду на край стола и, постелив газету, раскладывал на ней тетради и записные книжки, стопку линованной бумаги, ставил большую консервную банку - пепельницу - и вдвигался в стол вместе с табуретом. Он знал, что никто не придет к нему и не будет писем. Иногда ему сильно хотелось того и другого, но он сам сделал все, чтобы разыскать его мог только тот, кто очень захотел бы его видеть.
Так он сидел, не вставая, до часу дня, но в час отодвигался от стола и выходил пощупать снег - чтобы решить, какие мази положить сегодня. Потом возвращался в комнату и, достав из угла лыжи, развинчивал струбцину. Одну мазь из круглой коробочки он клал слоями на всю скользящую поверхность, другую - под пятку, и отдельно промазывал желобок. Напрягая плечо, так что оно становилось горячим, он растирал мазь пробкой и разглаживал до глянца ладонью.
Выставив лыжи на холод, чтоб затвердело, натягивал бумажный свитер, подвязывал брюки снизу веревочками и надевал толстые ботинки.
Перед тем, как выйти, он сидел у окна и выкуривал сигарету. Это были минуты предвкушения. Он думал о том, как сегодня в лесу и какое будет скольжение. Потому что снег очень редко повторялся в зиму: он мог быть крупным и льдистым, как толченая соль, или рассыпчатым и шелестящим, как крахмал, или он был с плоскими сухими блестками кварца, которые с звенящим шорохом осыпались с кольца, а после оттепелей - ноздреватым и серым, как траченный молью бархат, и сильно царапал мазь. Но бывали дни, - за все время он помнил два таких дня, - когда лыжи шли сами. Это бывало, когда пушистые хлопья опускались на жестко раскатанную лыжню, и тогда исчезала всякая отдача. Стоило шевельнуть ногой или слегка оттолкнуться палкой, и лыжи скользили легко и беззвучно в этой снежной сметане. В такие дни он бегал не два часа, а три или больше - и не мог победить усталостью ощущение полета.
У него было несколько разработанных маршрутов, километров по двадцати, и все они начинались с того, что он еще у крыльца защелкивал дужки креплений, отбрасывал палкой калитку и, понемногу раскатываясь, проезжал по улице. В нескольких окнах приподнимались занавески, и всякий раз Алеша смутно чувствовал себя бездельником. За угловым забором его ожидала собака. Он жил здесь уже два месяца, но каждый раз при его приближении она уже мчалась к забору, косолапо взрывая снег, с оглушительным медным лаем. Он любовался ее остервенело наморщенным носом и черно-лиловой пастью с жемчужными клыками. В ее злобе было что-то глубоко личное, точно он утопил ее щенков или вынашивал замысел подпалить будку.
Но вот он сворачивал в глухой переулок и сразу въезжал в лес - в запахи мерзлой хвои, смолы и снега. Он напоминал Алеше запах свеженакрахмаленной сорочки, только чуть кисловатый и терпкий. Шереметьевка не была "Меккой лыжников", как Подрезково или Опалиха, сюда они приезжали только по воскресеньям. Тогда лес наполнялся визгами и ярмарочной пестротой костюмов. Алеша не любил эти дни и этих лыжников, они были слишком экипированы, чтобы быть хорошими лыжниками. Они раскатывали несколько новых лыжней, но сами же их и портили, когда ходили по ним, сняв лыжи и держа их на плече. Он тихо ненавидел тех кретинов, которые ходят по лыжне без лыж, хотел понять таинственный ход их мысли. Но нет, это было непостижимо.
Он бежал густым молодым ельником, слыша только скрип и хлопанье своих лыж, толчки палок в сугробе и свое дыхание. Потом начался высокий бор, с золотистыми стволами и темными кронами. С веток срывались вдруг охапки снега, блестки медленно оседали, и ветка долго еще потом качалась. Тогда казалось, что кроме Алеши еще кто-то есть в лесу. Но он знал, что никого нет, только иногда очень низко пролетали самолеты. Их тени быстро скользили между деревьями и по ветвям, и в лесу начиналась обильная осыпь.
Лыжня впадала в березовую аллею, - здесь кончался сумрак, и впереди виделось поле, пересеченное дорогой, и бегущие по ней машины. Алеша выбегал из лесу, и сразу на него набрасывался ветер, обжигал ему щеку и мочку уха, не прикрытую шапочкой. Лыжня делала огромную петлю, упиралась в снежный вал, оттиснутый бульдозерами, и бежала рядом с дорогой, вместе с нею огибая летное поле. Поверх вала видны были две широкие взлетно-посадочные полосы, пропадавшие в дымчатой дали, и белые туловища самолетов, уткнувшихся носами в густой сизый лесок.