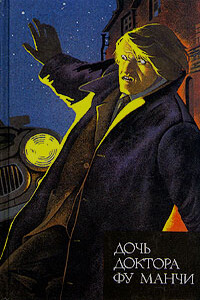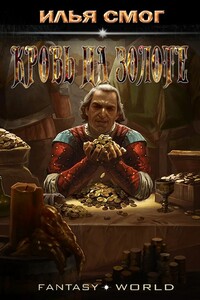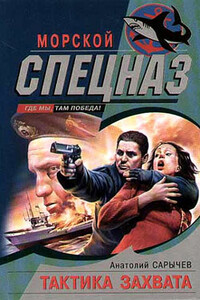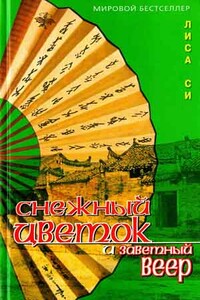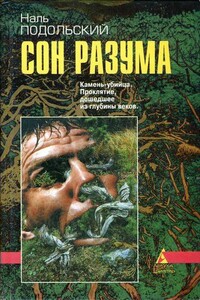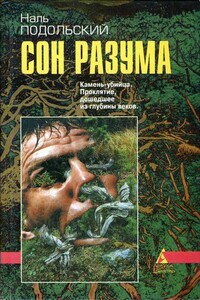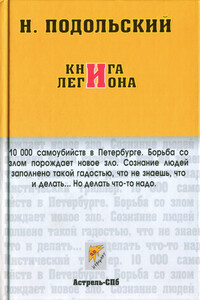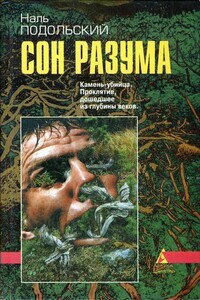Для спасения кладбищ нужен переворот радикальный, нужно центр тяжести общества перенести на кладбища, то есть кладбище сделать местом собрания и безвозмездного попечения той части города или вообще местности, которая на нем хоронит своих умерших.
Николай Федоров
Не желая указывать здесь мое настоящее имя, равно как и заменять его вымышленным, буду называть себя Доктором.
Первый эпизод. Место действия: вторая психиатрическая больница города Санкт-Петербурга, она же — Приют Николая Угодника на Пряжке. Восемнадцать отделений — лечебные, девятнадцатое — служебное, морг.
Описание места первого происшествия: двор больничный, грязный, квадратный, 25x25 метров, с трех сторон ограничен корпусами больницы, с четвертой — котельной и кухней.
Что он пишет? Совсем охренел, — похоже, чердак протекает. Это он ведь о том, как в палату привели Чудика, — так при чем же тут двор? Засранец.
Это Крокодил всунулся. Тупица, опер был, опером и остался. Пресмыкающееся. Как ему втолковать, что место события — это то, что я вижу к началу события. Ладно. Продолжаю описание. Посередине двора — газон 10x10 метров. Там сумасшедший мастер создал из бревен памятник мне.
Раскрашивать ему помогали два придурка из алкогольного отделения, оттого краски подобраны странно. Ничего не поделаешь: психи. Здесь все ненормальные, между прочим и врачи тоже. Место такое.
Я сделан из цельного ствола дерева, стою в белом халате, в очках, на шее висит стетоскоп. Я большой и важный, может быть даже страшный. Так и надо: я — главный, ибо я владею Пальцем. Психи выкрасили стетоскоп в оранжевый цвет, а безумный мастер вырезал лицо плоское, да еще с монгольским разрезом глаз, но все равно — это я. Интересней всего глаза. Он хотел, чтобы взгляд был пронзительный, как рентген, а сквозь деревянные очки это выразить трудно. И он сделал так, что глаза — и веки, и зрачки, и ресницы — вроде как торчат снаружи очков. Очки голубые, глаза черные, а веки — розовые. Безумный мастер знал, что делал: он своего добился. Я наблюдал специально, как больные во время прогулки проходят мимо меня, то есть Доктора, — почти все опускают лицо к земле. Редкий псих может выдержать этот взгляд.
Передо мною Прокопий. Мастер изобразил его медвежонком. Стоит на задних лапах, вид испуганный, смотрит жалобно на меня снизу вверх и показывает лапой на свой лоб: помоги, мол, Доктор, крыша поехала. Что поделаешь, такой он, Прокопий, и есть.
Зря он так обо мне. Сам-то — разумом дитя, а душой — и вовсе дерево стоеросовое, даром что на врача учился, еще до юридического. Он не ведает даже, что значит имя Прокопий, что по-гречески сие — обнаженный, сиречь голый, и что моей наготою душевной я неразвитость его и суетность перед Господом покрываю. Не ведает и того, что так звали нашего деда, священника, царствие ему небесное. Наш-то батюшка, человек сверх меры лукавый, уловчился про деда скрыть и присвоить себе в документах чужого родителя, посему жизнь прожил безбедно и даже служа в органах.
Помолчал бы, Прокопий. Не возникай. А не то — показать тебе Палец, что ли?.. Ну то-то же… Сам знаешь, только вылезешь — начинаются неприятности.
Продолжаю описание. Бревно горизонтальное, 4x0,3 метра, выкрашено зеленой краской, на подпорках, изображающих лапы, — Крокодил. Пасть огромная, почти до середины длины изделия, зубы чудовищные, нарисованы краской. Выражение лица глупое.
Что же ты, сука, пишешь? Кому твои памфлеты нужны? Не выйдет из тебя сыщика. Дерьмо.
Опять Крокодил вылезает… Молчать, капитан! Хватит, ты свое откомандовал. Эпоха Крокодила прошла, ибо Пальцем владею я… Никак не может забыть, что был главным. Рептилия.
Итак, 18 мая, после завтрака, то есть около десяти утра, я из окна палаты № 407 вел наблюдение за больничным двором, а Философ валялся на застеленной койке поверх одеяла и читал старую газету. Третья койка в нашей палате пустовала.
Данные о Философе. Имя — Павел, фамилию опускаю. Возраст — тридцать два года. Образование — высшее, двукратное: математический факультет и исторический. Не женат, детей нет, других родственников тоже нет. Диагноз — вялотекущая шизофрения, в периоды обострений — мания преследования. В психушку сдали соседи по квартире.
Во двор, обогнув котельную, въехала санитарная машина, наша больничная психовозка, и остановилась у приемного покоя. Я не счел это интересным, а Философ на скрип тормозов сразу насторожился, не поленился слезть с койки, и мы вместе смотрели, как новенький выходил из машины. Он направился к приемной очень медленно, словно спал на ходу, а санитар Колька терпеливо шел рядом и даже пальцем тронуть его не пытался. Валька Рыжая, медсестра, тоже не проявляла нетерпения. Ну она-то, ладно, не злая, психам сочувствует, но что касалось Кольки, было весьма странно, потому что при виде его жилистых, свисающих до коленей рук у многих в нашем корпусе начинало ныть в солнечном сплетении. Любил Колька врезать при случае, а уж тут, когда псих еле тащится, взбодрить его были все основания.
— В нашу палату, — объявил Философ и улегся опять на койку.
Что же, ход рассуждений понятен. Палата на троих, с собственным санузлом — в больнице единственная. Я здесь — за то, что хоть и уволен, но все-таки из угрозыска, нашу организацию везде уважают. Философа любят все, такой у него талант — располагать к себе. Значит, человек, которого не трогает даже Колька, определенно попадет к нам.