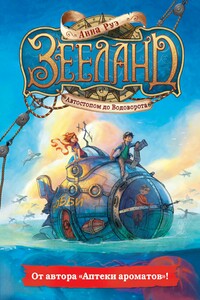В этот неуютный дождливый день, сидя за столом в теплой комнате, приятно вспоминать прошлые радости, чем более прошлые, тем, кажется, более милые. Память наша так устроена — чуть позволь ей забыть о том, о чем помнить тягостно — глянь, и уж словно ничего не было такого… Воспоминания детства с каждым годом все сильнее облекаются нежной перламутровой дымкой, из обычной песчинки реальных событий превращаясь в жемчуг несбыточного.
Ты, я вижу, смеешься, сынок — старик опять пустился в красивости. Что поделать — тихая размеренная жизнь и профессия навроде моей сами по себе склоняют к романтичности. Тем увлекательнее будет моя повесть. Несколько потерять в правдоподобии же для меня не страшно, поскольку для не желающего поверить история моего детства и так довольно странна и, пожалуй, даже сказочна. Потому я и излагаю ее впервые — кому хочется выглядеть лгуном?
Ныне же мне нечего терять. Родился я… Впрочем, придется начать иначе. Все дело в том, что, как ты знаешь, в нашем городке я пришлый и всегда считался одиночкой, сиротой безвестного рода. Это не так. Просто, когда я был еще не против рассказывать о себе, никто не поинтересовался, а после заставило меня молчать некое мнение, разделяемое слишком большим количеством людей. Одна мысль о необходимости доказывать каждому из них свою правоту портила мне настроение. Тебе же я ничего доказывать не собираюсь — если ты помнишь, я рассказываю сказку.
Так вот родился я в тихом сумрачном доме на холме, поросшем густым ельником. О знамениях и пророчествах в тот час мне ничего не известно, поскольку единственно присутствовавшие мои мать с отцом были слишком заняты, чтобы выглядывать что-то на небе. В ту пору, по словам матери, отец почти не отлучался — совсем остановиться где-либо он, увы, не мог, о чем я расскажу после. Любовь их в те времена еще не была уверена в себе и постоянно нуждалась в доказательствах собственного бытия, как это обычно бывает с молодыми парами, что не могут разлучиться и на час без тревоги в сердце. Я был первенцем, чудом и игрушкой — по крайней мере для отца, о матери же и по прошествии многих лет я не могу многого сказать с уверенностью. Во-первых, я совершенно не представляю, сколько бы ей могло быть лет. В самых ранних моих воспоминаниях она та же, что и в день последней нашей встречи — медленная цепкая уверенность движений, белое тяжеловатое лицо и темные косы, короной уложенные вокруг головы. Она всегда ходила в черном, никогда не пела и не смеялась (но и не мешала отцу и нам, детям). Улыбка ее всегда бывала такой робкой, как будто мама научилась улыбаться вот только что и не знает еще, как это у ней получится. Мы с сестренкой любили ее и побаивались, хотя она никогда не наказывала нас за самые глупые шалости — только поднимала с каким-то усилием свои тяжелые веки и в упор разглядывала шалуна. По словам сестры, ее всегда пробирал страх, мне же почему то становилось неудержимо стыдно, глядя в наполненные таинственной хищной жизнью проруби маминых зрачков. Ее внутренний хаос был настолько мощнее моего, что казалось чудом, как можно с такими глазами растить детей, вести дом и ждать отсутствующего мужа, а не носиться в ступе над замершими от ужаса селениями. «Я же сдерживаюсь» — говорил мамин взгляд. Впрочем, это я понял много позже. Тогда мне просто становилось стыдно.
Отец называл ее «Колодец», а она его — «Ветер». Мы, не зная других имен, звали их так же. Непоседа отец был и вправду похож на веселый весенний ветер. Когда он не пел, то насвистывал или играл на одной из множества флейт, свистулек и дудочек, что вечно наполняли его сумку и карманы. Была у него одна странность — там, где появлялся он, разбегались тучи. По крайней мере, никогда не приходил он в дождь, и во время пребывания его в доме небо всегда оказывалось безукоризненно синим. Однажды летним вечером, сидя со мной на теплой траве перед домом, он сказал мне:
— Все из-за этих облаков. Если бы они не прятались так от меня, я смог бы жить с вами. А так — видишь, листья желтеют? Третью неделю засуха. Я ведь никогда не видел дождя. Красиво, наверное, да? Я, помнится, ответил, что очень красиво, когда ненадолго, но быстро надоедает.
— И все становится серым, мокрым и холодным, как лягушка за шиворотом.
— Да, Бастиан, по твоему описанию я немного потерял. Спасибо.
— За что, отец?
— Не так обидно будет завтра уходить. Ведь я избавлю кого-то от дождей, правильно? А к вам дождь придет, чтобы трава не перегорела, и чтобы колодец не пересох.
Колодец, о котором шла речь — обычно мы называли его Продинем, располагался у подножия холма и выглядел как узкий провал в каменной породе, в котором, если лечь на землю и заглянуть вниз, сверкали блики далекой воды. Вода эта была ледяная и горьковатая той самой горечью, что милее путнику любой сладости. Мама запрещала ее кипятить, так что для супа или мытья шла вода дождевая. И вправду — вода в Продине была таинственная, прыгучая тяжелыми каплями и в животе отзывалась холодком, как от только что разгаданной загадки. Мы с Этель (моей сестренкой) порой ложились наземь головами в отверстие Продиня и кричали: