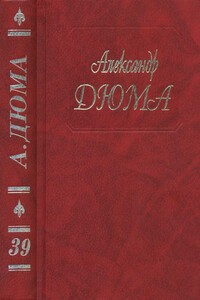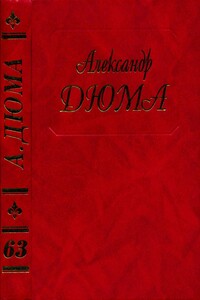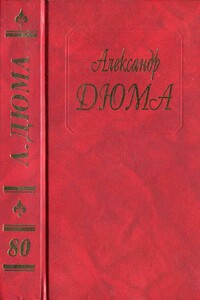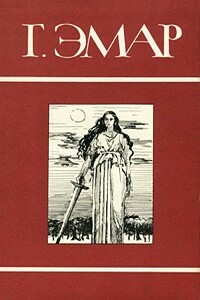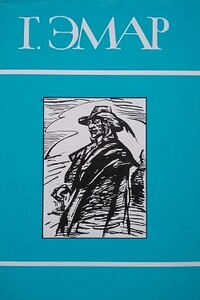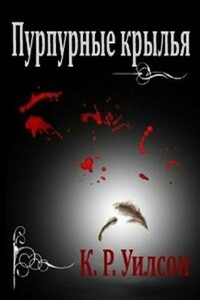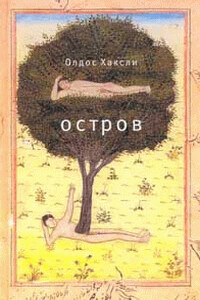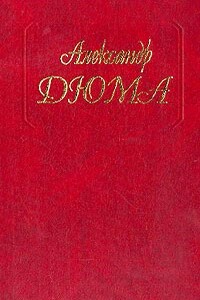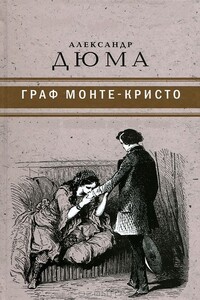Четырнадцатого января 1815 года, около пяти часов вечера, по устланной снегом дороге от селения Вимий к расположенной между Булонь-сюр-Мер и Кале маленькой гавани Амблетёз, куда в 1688 году высадился изгнанный из Англии король Яков II, шагал священник, предшествуемый пожилой женщиной, видимо его провожатой. Он шел быстрым шагом, свидетельствовавшем о том, что его с нетерпением ждут, и беспрестанно запахивал полы плаща, пытаясь укрыться от порывов ледяного ветра, дувшего с берегов Англии. Было время прилива, и к реву валов, накатывавшихся на берег, примешивался глухой скрежет гальки, потревоженной прибоем.
Пройдя около полульё по дороге, обсаженной двумя рядами чахлых вязов — зимой их оголяла сама зима, а летом трепал морской ветер, — старуха свернула на едва заметную под снегом тропку: она начиналась справа от дороги и упиралась в порог маленькой хижины, построенной высоко на склоне холма, что господствовал над окрестными далями. Лишь слабый огонек свечи или масляной лампы мерцал в окне, указывая местоположение этой хибарки, совершенно утонувшей в снежной мгле.
Нашим путникам хватило десяти минут, чтобы добраться до порога; старуха уже протянула руку, чтобы открыть дверь, но та распахнулась сама, и молодой нежный голос произнес с чуть заметным английским акцентом:
— Входите, господин аббат! Моя матушка ожидает вас с нетерпением.
Старуха отступила в сторону, пропуская вперед священника, и вслед за ним вошла в хижину. Молодая девушка, открывшая им, затворила дверь и провела их во вторую комнату, единственную, где горела лампа. Лежащая в постели женщина с усилием приподнялась, увидев их, и слабым голосом спросила по-английски:
— Это он?
— Да, матушка, — на том же языке ответила ей девушка.
— Так пусть он войдет! Пусть войдет! — перейдя на французский, воскликнула больная и бессильно упала на подушки.
Пройдя во вторую комнату, священник склонился над кроватью, между тем как девушка и старуха остались за порогом.
По-видимому, даже попытка пошевелиться очень утомила несчастную, и ее голова безвольно откинулась назад; слабеющей бескровной рукой она лишь указала на кресло, призывая служителя Господа приблизиться и сесть напротив.
Священник понял этот знак, придвинул кресло к ее изголовью и сел.
Наступившую тишину нарушало теперь лишь прерывистое дыхание умирающей и всхлипывания, которые девушка тщетно пыталась подавить в своей груди.
Священник же воспользовался заминкой, чтобы оглядеться.
Внутреннее убранство хижины являло собой странную смесь роскоши и нищеты. Мебель здесь осталась такой, какой и подобает быть в бедном доме, вид стен свидетельствовал о том же; однако простыни на постели больной были из тончайшего голландского полотна, ее ночная рубашка — из самого дорогого батиста, а платок, охватывавший ее шею и удерживавший копну великолепных каштановых волос, окаймляли драгоценные кружева, которым Англия даровала свое имя.
Напротив кровати, разделенные лишь окном с бедными ситцевыми занавесками, висели два парных портрета мужчины и женщины в полный рост; принадлежа, по-видимому, кисти одного из знаменитых современных живописцев, они бросались в глаза великолепием красок и своими размерами.
С одной картины на священника смотрел старший офицер британского флота. На его голубом мундире, слева, под орденом Бани — весьма почитаемом в Англии, где его дают лишь за великие благодеяния, оказанные отечеству, — красовались еще три награды; знаток подобных материй без труда распознал бы в одной из них неаполитанский орден Святого Фердинанда «За заслуги», в другой — мальтийский орден Святого Иоахима, учрежденный российским императором Павлом I и канувший в небытие вместе с ним; что касается третьей, то это был оттоманский Полумесяц, заключавший в своем изгибе бриллиантовый вензель султана Селима III.
Однако особенно примечательно выглядело овеянное славой увечье, жертвой которого стал тот, с кого был писан портрет: широкий шрам, пробороздивший лоб, и черная повязка под ним, прикрывавшая вытекший глаз, не говоря уже о пристегнутом к пуговице мундира правом рукаве, где пряталась культя отнятой выше локтя руки.
Изображенный на портрете светловолосый человек был среднего роста, его оставшийся единственный глаз искрился живым умом, наконец, орлиный нос и крупный волевой подбородок свидетельствовали о решительности и храбрости, столь необходимых воину.
Напротив, женщина являла собой чистый идеал красоты и грации. Ее каштановые волосы без всяких украшений великолепными прядями ниспадали на шею и грудь; черный цвет глаз и бровей подчеркивал ослепительную свежесть кожи; точеный нос восхищал правильностью своей формы, а по-детски полураскрытые губы напоминали розовый бутон в весеннее утро и давали возможность если не увидеть, то угадать два ряда жемчужин.
Молодая женщина на портрете была облачена в кашемировый хитон, шитый на древнегреческий лад; на ее правое плечо художник небрежно набросил пурпурный плащ; талию обхватывал широкий пояс из расшитого золотом вишневого бархата, а тяжелая пряжка была украшена камеей с профилем старца.