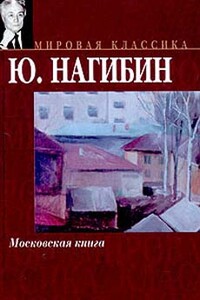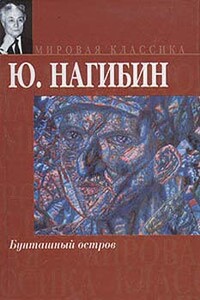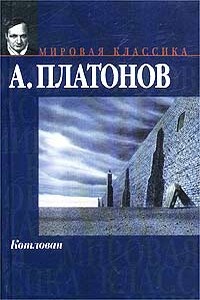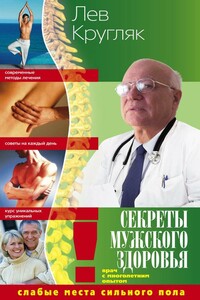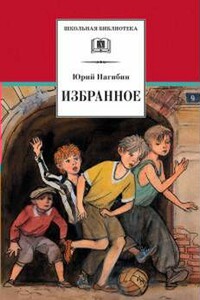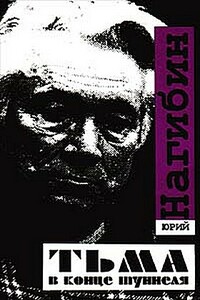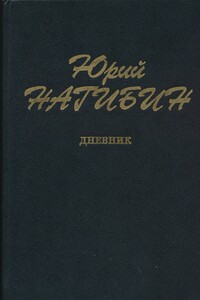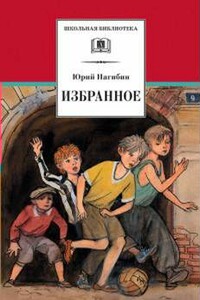Я столько раз то сливался, то разъединялся с этим человеком, не порывая окончательно, что в конце концов и сам перестал понимать, где я, где он, где мы, то есть сцеп, слияние его и меня. Он назывался разными именами, был и моим тезкой, раз даже носил мою фамилию, что вовсе не означало, как я сейчас понимаю, полного соответствия мне. Но я долго заблуждался, будто управляю им, пробуждаю к жизни и опускаю в закат, что вне моей воли он не существует. С некоторых пор я обнаружил, что совсем запутался с ним, хуже — он обрел странную и возмутительную самостоятельность, стал ничуть не менее реален, нежели его создатель. Теперь он всякий раз сам называет себя. Я собираюсь писать вовсе не о себе, задумываюсь, как бы повыразительнее назвать своего героя, но кто-то нашептывает мне в ухо: это Петров или Гущин, и в нарочитой простоте фамилии, годной скорее для псевдонима, нежели для родового имени, открывается, что не существующий вроде бы еще персонаж уже знает, кто он, и намеревается представлять меня, а не жить собственной, обособленной жизнью.
Вот и сейчас я хотел писать от первого лица, от Я, своего собственного, а не условного Я. Не рассказ — быль, подлинный случай, как мы зашли с женой в плохонький рыбный ресторанчик на Чистых прудах, на самом берегу водоема, где раньше, в мои школьные годы, находилась теплушка Чистопрудного катка с пупырчатым, потрескавшимся естественным льдом. И вдруг обнаружилось, что нельзя рассказать об этом без подмены себя кем-то другим, очень похожим, но не настолько, чтобы он знал обо мне все. Убей меня Бог, если я понимаю, почему это так и почему он вдруг назвался Сергеевым, но он научил меня принимать все его превращения на веру и не спорить. Иначе вообще ни черта не получится.
Итак, Сергеев поехал с женой на Чистые пруды, где он родился, рос и учился в школе, поставил машину напротив ресторана, чтобы видеть, как ее будут угонять, и перевел жену по люто скользкой декабрьской наледи через улицу и рельсы все той же «Аннушки», что прогремела сквозь его детство своими одинокими, бесприцепными вагончиками, без устали кольцующими центр города. Его умилило, что в мире, где все переменилось, подчас неузнаваемо, сохранился очажок верности: старый трамвай все так же мчится мимо старых деревьев, старого бульвара. Сергееву хотелось сказать об этом жене, но ведь она была ленинградка и это чисто московское умиление едва ли найдет отклик в ее душе. Естественно возникал вопрос: для чего вообще потащил он жену в этот второразрядный ресторан на берегу неопрятного по гнилостной поре пруда? Осень залезла в зиму и упорно не давала ей отбелить изгвазданный ноябрем город. Только ляжет снег на крышу, деревья, мостовую и тротуары, как тут же с низкого сумрачного неба начинает сочиться какая-то черная жижа — дождь, растворивший в себе копоть, сажу, содержимое автомобильных выхлопов, и снег замешивается в отвратительную черно-желто-серую кашу; к вечеру мороз напекает на ней корочку, а мостовую затягивает ледяной пленкой, поверх которой растекается вода. Ни ходить, ни ездить, ни дышать, ни жить нельзя. Крайне неподходящая погода для паломничества в прошлое.
Сергеев с женой происходили не только из разных земель, таких во всем разных, как Москва и Ленинград, но также из разных эпох — она родилась в год, когда он кончил школу. Друг друга они нашли после крушения и старались не слишком ворошить прошлое. Хоть ты и выбрался из-под обломков с рожей в крови, в синяках и ссадинах, надо делать вид, будто шел навстречу другому легкой, скользящей и величавой поступью, как небожитель по солнечному лучу. Это не просто требование хорошего тона, опрятность поведения, а нечто более важное, что должно спасти и возвысить союз на обломках. Но кроме недавнего прошлого, обратившегося в гору мусора, у Сергеева существовало и другое, представлявшееся ему непреходящей ценностью: его детство. И Сергееву, неизменно находившему нравственную опору в днях своего начала, захотелось ввести туда жену. Без детства он не полон, не равен себе, настоящему. Быть же полным, быть самим собой в глазах любимой — стремление естественное и не нуждающееся в расшифровке. Но он никогда не подмечал сходных намерений у жены. Не то чтобы она старалась загородить свою раннюю жизнь от него, исключала прошлое сознательным усилием, нет, когда клочки былого взметывались тополиным пухом, она позволяла им сколько угодно залетать в окно. Но никогда не трясла дерева собственноручно. Они были разные люди. Он мог по праву сказать о себе навязшую в зубах фразу Экзюпери: я из страны своего детства. Она не посягала на подобные утверждения.
Конечно, лучше бы перед ними оказалась старая теплушка с маленькой раздевалкой и русской — это в центре Москвы-то! — печью, насквозь продуваемая во все концы, грязноватая, прокуренная, пахнущая печным угаром, мокрым снегом и жаренными на машинном масле Пирожками с повидлом — бедный и прекрасный запах детства начала тридцатых годов, — нежели современный с виду рыбный дворец, лишенный и связи с прошлым, и какой-либо характерности, что послужила бы вызовом былому. Но его омывали прихваченные ледяными стрелками темные воды пруда, а из окон можно оглянуть бульвар в сиротливости стыка осени и зимы — голые черные деревья, мокрые зеленые скамейки, расквашенные рыжие дорожки, редкие торопливые прохожие, а по другую сторону бульвара — «Колизей», некогда великий «иллюзион» всех окрестных ребят, ныне утраченный, как утрачиваются все иллюзии, — его перестраивали под театр.