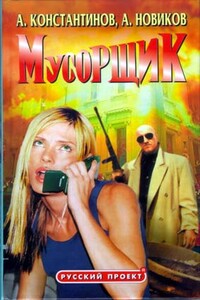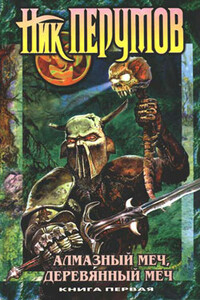Леса под Володимиром горели. Тлели и иссохшие за лето торфяники. Поутру сизый дым казался туманом, сквозь который проступали сухие горячие стены. Солнце катилось по небу красным раскаленным щитом и тонуло в крови, уступая место багровому месяцу. Разразившаяся в Симеонов день гроза сожгла древний дуб на Болотовой горе и снесла крест с колокольни Кронида Великого. Стекавшиеся со всех сторон в Володимир странники рассказывали кто о рожденном в полночь двухголовом жеребенке, кто о поющей петухом курице, кто о седом волке, что средь бела дня вошел в божию церковь и задрал попа с дьячком. И все громче звучал ропот — не жить человеку без головы, а Руси — без государя… И верно, не жить.
— Воля твоя, Степан Никитич, — боярин Богунов потер красные от дыма и бессонных ночей глаза, — тебе и решать, только не тяни! Убивай, так сразу.
— Не могу я, Денис Феодорович, прости! — Воевода князь Алдасьев-Серебряный глядел в пол. В пол, хотя не опускал взора ни пред покойным Кронидом Васильевичем, ни пред палачами его, ни пред горбачом Митиным, что пробудил стыд и дух воинский в отчаявшихся русских. — Не по чину мне венец и не по силам, да и кому я его оставлю? Сам знаешь…
Денис Феодорович знал, как никто иной. Когда Алдасьева схватили по навету Шигорина, не забыли ни про жену его, ни про детей, ни про братьев и племянников. Их смерть не была легкой, но в сравнении с тем, что готовил Кронид Васильевич самому воеводе, казалась милостью.
— Если в стремя ногой да на поганых, я еще пригожусь, — голос защитника Плескова звучал виновато, но твердо, — только не тяни коня на колокольню. Не влезет, а и влезет — толку-то…
— Ты Киевой крови, — в сотый раз напомнил Богунов, уже зная, что за ответ последует.
— Не я один, — отрезал воевода, сутуля богатырские плечи. — Киевичами не один Володимир красен…
— Верно, — подтвердил Богунов, заходясь кашлем. Дым и сушь рвали горло не хуже елового корья, что совали в глотки узникам опричники Завреги. — Прости, княже, воды изопью…
— Зачем же воды? — Все еще гнущие медяки пальцы сомкнулись на ручке изукрашенного чудо-птицами кувшина. — Медовухи испей, а там и обед поспеет…
— Думаешь, сытым отвязчивей стану? — усмехнулся в кольчатую бороду думный боярин. — Не стану, друже, не надейся. Ты на иных Киевичей киваешь, дескать, много их. И впрямь немало, только каковы они? Иоанн Меньшой, сколько б самозванцев на нашу голову ни свалилось, в могиле, Ейский — в монастыре, и хвала Господу! Каморня четырех государей предал и пятого продаст, Мицкой честен, да глуп, Чемесов — младенец, Древецкой — старик, Солонецкие удавятся, а под руку к Волохонским не пойдут, Волохонские в омут сиганут, лишь бы Солонецким не кланяться. Забецкой сам знаешь где… Черницкие с Долгополыми да Короткими никому и через порог не надобны. Не признает их никто: друзья не обрадуются, враги не убоятся. Нет, Степан Никитич, кроме тебя — некому, а что вдов ты, так то исправить недолго. Пятый десяток — не осьмой. Я старее тебя, а года нет, как меньшую в купель опустил…
Алдасьев не ответил, только брови свел. Тяжелое дыханье в жаркой тишине казалось странно громким и хриплым. Денис Феодорович незаметно утер лоб и замер, боясь спугнуть надежду. Князь должен согласиться, потому что больше на ошалевшем от смуты Володимире никому не усидеть — скинет, как скинул обоих Лжеиоаннов и лукавца Ейского. А если и четвертый раз, упаси Господь, не сложится?
— Не жить нам, — отчего-то вслух произнес Богунов. — Север немцы со свеями отгрызут, запад — ляхи, на востоке татарва воспрянет, а что останется, само себя изъест…
— Не начинай сначала, друг дорогой, — устало произнес Алдасьев, — сам все знаю.
— Нет, Степан Никитич, — уцепился даже не за хвост, за подкову Богунов, — не все ты знал, но узнаешь. Не своей смертью умер Кронид Васильевич. Грех на мне, да не один, ибо не стыжусь содеянного, но стыжусь того, что тянул. Видел, к чему идет, что безумие государя губит Русь… Кровища хлещет, соседи руки потирают, прикидывают, когда накинуться, воеводы кто на дыбе, кто — в царствии небесном, а я разумом понимаю, а боюсь! Сам не ведаю, чего жду…
— Лукавишь, Денис! — рявкнул, словно на поле боя, Алдасьев. — Напраслину на себя взводишь! Что государь от удара преставился, то всем ведомо. Знаю, взъярил ты его, так не ты первый. Я да Чемесов, покойник, еще и не то ему сказывали, как Заврега под Желынью войско положил…
— Что взъярил, то вершки от бурака! — Девять лет ни попу, ни жене, ни подушке не сказывал, да и сегодня не гадал, ан придется… — А корешки в том, что была у меня отрава фряжская. Не всем, как тебе да старцу Финогену, душу да совесть вперед тела стеречь. Нагляделся я на орлов Заврегиных и сказал себе, что лучше грех на душу да в пекло, чем на дыбу или к ливонцам по следу Забецкого…