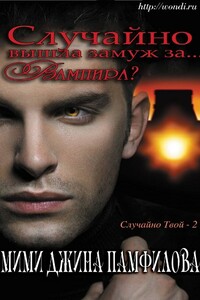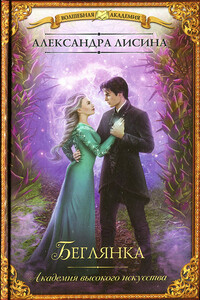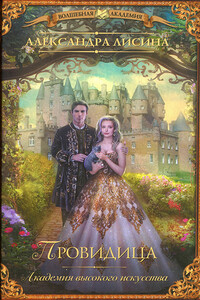Говорят, когда на Лиаре умирает светлый эльф, над Светлым лесом целый месяц висят свинцовые тучи, а солнце слегка тускнеет в знак траура по погибшему. Когда приходит время темного, над местом его гибели неделю плачет небо и рвутся от молний черные тучи. Если погибает гном, безутешно стонет мать-земля, а где-то в глубоких пещерах рассыпается в прах один из сталактитов. И только смертные неслышно приходят в эту жизнь, незаметно живут и чаще всего так же незаметно умирают.
Неизвестно, кто из перворожденных придумал песнь прощания, — древние хроники не сохранили имени смельчака. Никто доподлинно не знал, что за сила таится в ее строках и какую власть она обретает над безумцем, рискнувшим раньше времени призвать Ледяную богиню. Но каждый живущий на Лиаре был уверен: стоило кому-то из эльфов пропеть ее вслух до конца, как незваная гостья непременно забирала его душу. Милосердно давала отпить из своей чаши напиток скорби и манила за собой, будто питала к бессмертным какую-то тайную слабость.
Слова и мелодия были стары, как сама жизнь. Зовущие, мягкие, нежные. Просто красивая песнь для той, чья поступь легче воздуха и чье ласковое прикосновение — последнее утешение для обреченного. Ничто не способно противостоять этой магии. Никому не под силу остановить смерть, если слова песни прозвучали полностью. И лишь одно препятствие сумели поставить ей перворожденные — песнь возрождения, чьи слова напитаны такой же древней эльфийской магией.
Но вот беда: мало осталось на свете владеющих этим знанием и еще меньше — безумцев, готовых поспорить со смертью за уже отлетающую душу, которая твердо вознамерилась уйти.
Встань, о сраженный под сенью звезды.
Встань и стряхни белой смерти оковы.
Встань, павший воин, со мной и иди
Туда, где рассвет занимается новый.
Ступай лишь вперед, идущий во тьме.
Сумей различить в этом мраке мой шепот.
Поверь, он разгонит все тени на дне
И заглушит их призрачный хохот.
Дорога длинна, но и ей есть предел.
Ты снова устал, но теперь это радость,
Ведь тем, кто не чувствует боли от ран,
Мой зов не подарит покой или благость.
Ты жив. Это правда, и помни о ней,
Пока ищешь выход из темного плена.
Ты жив. Ты способен вернуться, поверь,
И вновь возродиться из серого тлена.
Спеши на мой голос, пока я сильней
Сомнений твоих, твоей боли и страха.
Спеши, возвращайся, надейся, сумей!
Найди эту дверь из кромешного мрака!
Я жду тебя, павший, на той стороне,
Где солнце ласкает холмы и дороги,
Где ветер шумит в зеленой листве
И где тебя встретят родные пороги…
[1]В теплый летний вечер на постоялом дворе в самом центре Борревы было слишком многолюдно. Точнее, людей-то здесь как раз не наблюдалось, зато всяких других — не протолкнуться. И с двумя, и с четырьмя ногами; с хвостами, с лапами и даже с длинными ушами.
Возле высокого забора с бледными от волнения лицами стояли пятеро темных эльфов, судорожно сжимая рукояти клинков и тщательно следя, чтобы никто из любопытных не вздумал сунуть сюда свой нос. Рядом с ними находился воевода Левой заставы, в чьих темных радужках едва заметно тлела надежда. Внутри этого импровизированного живого ограждения молчаливыми глыбами застыли в неестественных для скакунов позах два громадных мимикра. Карраш тесно прильнул к плечу Таррэна, Ирташ осторожно поддерживал низко склонившуюся Белку, а между ними лежал хранитель, которому жить оставалось совсем немного.
Линнувиэль был невероятно бледен. Изможден, будто намедни его забрали с королевских каменоломен, где он пробыл не менее пары-тройки десятилетий. Черты красивого лица заострились, зеленые глаза потускнели и теперь напоминали два темных провала в бездну, в которой уже истаивали последние живые искры. Белоснежная рубаха оказалась безжалостно распорота на лоскуты, наглядно демонстрируя причину угасания эльфа, — четыре глубокие отметины на его левом плече выглядели совсем свежими. Почерневшие края ран красноречиво говорили; не жилец. И это было бы совершеннейшей правдой, если бы над умирающим не лилась тихая, чарующая песня, которая могла затронуть даже самые закосневшие души. Древняя, как сама жизнь, до отказа напоенная эльфийской магией, а потому способная противостоять даже почти завершенной песни смерти.
Белка, сидя на земле и положив голову эльфа себе на колени, бережно придерживала руками его заострившийся подбородок. Низко наклонившись, тихо пела для него, заставляя замерших эльфов цепенеть от осознания смысла происходящего и лихорадочно искать ответы на нескончаемую череду вопросов. Она не смотрела по сторонам — прикрыв глаза, Гончая старательно вспоминала знания, переданные ей много лет назад другим магом, чей разум хранил немало бесценных подсказок. А Ирташ исправно вбирал в себя излишки ее силы, чтобы не всполошить всю округу творящимся здесь таинством. Точно так же, как Карраш незаметно вбирал в себя отголоски магии Таррэна, сплошным потоком вливавшейся в изможденное тело хранителя.
— Плохо, — беззвучно обронил в тишину Шранк, и Сартас немедленно к нему повернулся.
— Не получается?
— Не то чтобы… — Воевода покачал головой. — Вашего хранителя укусила самка мимикра… помнишь ту гиену, чей прикус так не понравился Белику? Так вот, они ядовиты, их слюна растворяет даже гномью сталь. А уж если попала в кровь, да еще и в кровь мага, то пиши пропало. Таррэн пытается обезвредить заразу, но, боюсь, даже его сил может не хватить: прошло слишком много времени. Там все насквозь должно разъесть — сердце, кишки, печень… Удавлю этого молчуна, если выживет! Гордость ему, видите ли, не позволила сказать! Сейчас только родовой перстень удерживает его на грани. Да еще Белик, хотя не могу сказать, насколько его хватит.