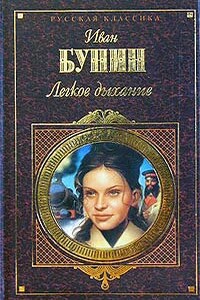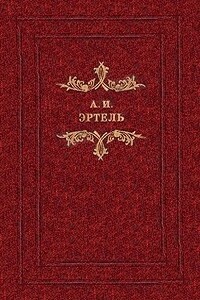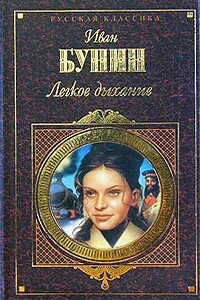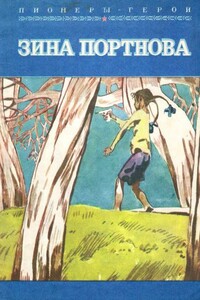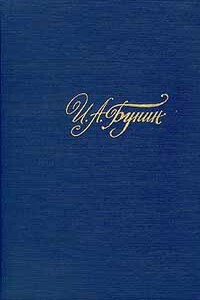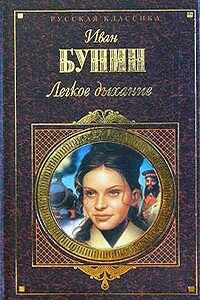«А право, – с улыбкой подумал Волков, сидя вечером в собрании сельскохозяйственного общества, – нигде так не развиваются способности к живописи, как на заседаниях! Ишь, как старательно выводят!»
Головы сидящих за зеленым освещенным столом были наклонены; все рисовали – вензеля, монограммы, необыкновенные профили. Чай, бесшумно разносимый сторожами, изредка прерывал эти занятия. Спор вице-президента с одним из членов общества на время оживил всех; но доклад, который монотонно начал читать секретарь, снова заставил всех взяться за карандаши. Рассеянно глядя на белую руку президента, в которой дымилась папироса, Волков почувствовал, что его трогают за рукав: перед ним стоял его товарищ по агрономическому институту и сожитель по меблированным комнатам, поляк Свида, высокий, худой и угловатый в своем старом мундире.
– Здравствуйте, – сказал он шепотом, – о чем речь?
– Доклад Толвинского: «Из практики сохранения кормовой свекловицы».
Свида сел и, протирая снятые очки, утомленными глазами посмотрел на Волкова.
– Там вам телеграмму принесли, – сказал он и поднял очки, разглядывая их на свет.
– Из института? – быстро спросил Волков.
– Не могу знать.
– Из института, верно, – сказал Волков.
И, поднявшись торопливо, на цыпочках пошел из залы. В швейцарской, где уже не надо было держать себя напряженно, он вздохнул свободнее, быстро надел шинель и вышел на улицу.
Дул сырой мартовский ветер. Темное небо над освещенной улицей казалось черным, тяжелым пологом. Около колеблющихся в фонарях газовых рожков видно было, как из этой непроглядной темноты одна за другой неслись белые снежинки. Волков поднял воротник и быстро пошел по мокрым и блестящим асфальтовым панелям, засовывая руки в карманы.
«И чего только не рисуют, – думал он. – И как старательно!»
Темнота, сырой ветер, треск проносящихся экипажей не мешали его спокойному и бодрому настроению. Телеграмма, верно, из института… Да она теперь и не нужна. Он уже знал, что через полмесяца будет помощником директора опытного поля; перевезет туда все свои книги, гербарии, коллекции, образцы почв… Все это надо будет уставить, разложить (он уже ясно представлял себе свою комнату и себя самого за столом, в блузе), а затем начать работать серьезно – и практически, и по части диссертации…
– «Восста-аньте из гробов!» – пропел он с веселым пафосом, заворачивая за угол, и столкнулся с невысоким господином, у которого из-под шапки блеснули очки.
– Иван Трофимыч?
Иван Трофимыч живо вскинул кверху бородку и, улыбаясь, стиснул руку Волкова своею холодною и мокрою маленькой рукою.
– Вы откуда?
– Из сельскохозяйственного, – ответил Волков.
– Что же так рано?
– «По домашним обстоятельствам». А вы?
– Из конторы. Работаем, батенька…
– У вас, значит, и вечерние занятия?
– Да, то есть нет, только весною – к отчету подгоняем… Да скверно, знаете… Даже не скверно, собственно говоря, а прямо-таки – подло… Бессмыслица…
Иван Трофимыч запустил руки в карманы и съежился в своем пальтишке с небольшим, потешным воротником из старого меха.
– Почему? – спросил Волков.
Иван Трофимыч встрепенулся.
– То есть как почему? Да на кой черт кому нужна эта работа? Какой смысл, позвольте спросить, в этих пудо-верстах, осе-верстах, пробегах и во всяких этих столах переборов и всяческих ахинеях?
– Ну, положим, смысл-то есть…
– Белиберда! – воскликнул Иван Трофимыч с сердцем.
Волков снисходительно улыбнулся.