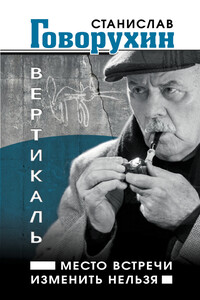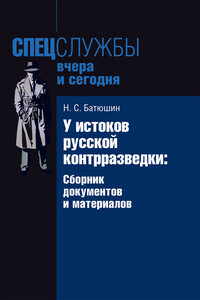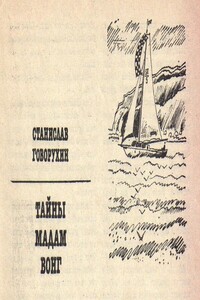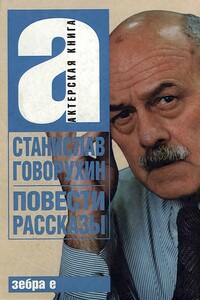Мне довелось жить в трех эпохах. В сталинской России, в хрущевско-брежневской и в нынешней, криминальной стране.
Когда умер Сталин, я плакал. Плакала мама, у которой усатый вождь отнял мужа, плакала бабушка, прожившая при Сталине совсем не сладкую жизнь. Плакал весь народ, кроме тех, конечно, кто понимал, что происходит в стране. Но они в основном жили в столицах и были приближены к высшей иерархии или имели косвенное к ней отношение, как одна наша знакомая, отсидевшая десятку за то, что служила домработницей в семье Пятакова.
Плакали, правда, уже от радости — целые народы, по которым прошел сталинский каток, — чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы, калмыки, крымские татары… Ну и, понятно, взревели от счастья два миллиона зэков, сидевших в лагерях, — настоящие герои сталинских «пятилеток», построившие ДнепроГЭС и Беломорканал, Норильскникель и Джезказганские рудники, добывавшие стране руду, нефть, золото, серебро и вольфрам, «ковавшие Победу».
5 марта 1953 года мой друг, Вадим Туманов, шел в колонне колымских зэков — на работы. Сзади кто-то шепнул ему:
— Вадим, слыхал: Ус хвост отбросил!
Через минуту вся колонна заключенных бушевала от радости. Конвоиры стали стрелять поверх голов.
Были, были люди, кто понимал. Но 250 миллионов не понимали!
В 1949 году я обманул райком комсомола, прибавил себе год возраста, чтобы скорее стать комсомольцем. Хотелось быть похожим на Олега Кошевого и Сережку Тюленева.
В 1956 году пошли слухи, что Хрущев прочел на съезде закрытый доклад о культе личности Сталина. Вскоре его содержание стало известно не только партийцам, но и всему населению.
С этого года и началась для меня новая эпоха. Эпоха прозрения.
Взрослея, я многое узнавал и о себе, и о своей стране. В истории моей семьи (как, впрочем, и в истории каждой семьи), как в зеркале, отразилась история страны. Прадед мой, Трофим Васильевич, — кузнец. Дед, Афанасий Трофимович, — сельский учитель. На десятый год советской власти его лишили избирательных прав. За что? Хоть и сельская, но интеллигенция — ненадежный народ!
Он стал «лишенцем». Для того чтобы его не сослали, он уехал работать туда, куда ссылали, — в город Соликамск. Там были десятки концентрационных лагерей.
Мой будущий отец как раз там и сидел. Он был донской казак. Но в Соликамске он не задержался. Отсидел положенный срок, вышел, познакомился с моей мамой, «родил» сестру и меня и загремел дальше, уже в Сибирь.
Как всякий живой человек, я врал много — друзьям-товарищам, всевозможному начальству, своим близким. Но с высокой трибуны или в своих фильмах — не врал никогда. Легко ли было, существуя в искусстве, в идеологическом, так сказать, ведомстве, не погрешить против совести? Соблазн был велик: быть обласканным начальством, угодить самому Суслову… За этим следовали внеочередные звания, государственные премии, цацки на грудь, комфортные условия жизни, соблазнительные поездки за рубеж…
Я снимал в те времена безыдейщину (на Их взгляд): «Робинзона Крузо», «Тома Сойера», «Детей капитана Гранта»… Сейчас — когда свобода слова, когда говори что хочешь, — я и сейчас снял бы эти фильмы точно так же. Была однажды возможность согрешить, пойти против своей совести. Когда я работал над фильмом «Место встречи изменить нельзя». Это ведь не столько детектив, сколько социальный фильм. Соврать или умолчать можно было… Но мы сумели удержаться. «Место встречи» хоть и со скрипом, но появилось на голубых экранах.
Поэтому фильм и живет так долго — три десятилетия. Вот сейчас, когда я пишу эти строки, в соседней комнате, где работает телевизор, показывают — в тысячный раз! — «Место встречи изменить нельзя», все пять серий — нон-стоп.
Наступил апрель 85-го.
Выступил Горбачев, объявил о революции сверху — о перестройке. Призвал каждого гражданина лично участвовать в судьбе отечества.
Я с головой бросился в омут общественной жизни, в политику. Моя гражданская позиция не могла не отразиться в моих фильмах.
Так что это уже третья на моей памяти Россия. В ней я и живу, и работаю по сей день.
Отца у меня не было. Все разговоры об отце в семье пресекались. Став взрослым, понял: мама не хотела портить детям биографию, хотела, чтобы они получили высшее образование. У самой была жизнь — тяжелее не придумаешь, так хоть дети…
Вспоминаю: когда бабка сердилась на меня, ворчала:
— У-у, арестант! Вылитый отец…
«Ага, значит, отец был арестантом…» Спросить некого — и мама, и бабушка, и дедушка умерли к тому времени. Попросил сестру написать в Ростов (о том, что он был донской казак, мы знали).
Пришла бумага:
«Говорухин Сергей Георгиевич, 1908 года рождения, осужден на три года концентрационных лагерей… Бросил камень и произвел выстрел в окно, где проходило заседание деревенской бедноты…»
Ему было 20 лет.
Стало что-то проясняться. Видимо, отсидел в Соликамске три года, вышел, познакомился с мамой, «родил» сестру и меня и снова «загремел». Основания были (достаточные для того времени — 1937 год): во-первых, донской казак (казачество тогда пытались ликвидировать как класс), а во-вторых, однажды уже был судим. В анкетах я так и писал: «Умер в Сибири приблизительно в 1938 году».