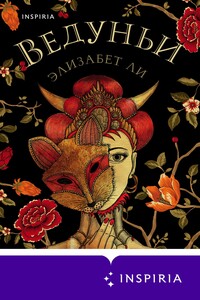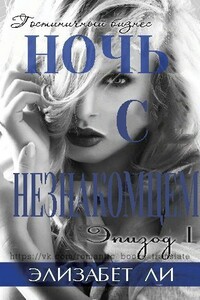Ланкашир, 1620[1]
Энни спит, свернувшись клубочком на нашей с ней общей постели. Спит крепко, даже обслюнявленный палец изо рта выпустила. Я встаю на колени, мягко трясу ее за плечо. Она хмурится и что-то бормочет, не открывая глаз.
– Просыпайся, – говорю я.
Но она меня отталкивает и поворачивается ко мне спиной.
– Вставай. Пора тебя осмотреть.
При этих словах глаза Энни распахиваются, она садится в постели и, вцепившись в мою руку, спрашивает:
– А что, он приходил?
– Нет. Мы ведь позвонили в колокольчик, верно? И зола осталась нетронутой.
Энни свешивается с лежанки, вокруг которой насыпано тонкое кольцо золы, и старательно ищет, нет ли на нем отпечатков дьявольских копыт.
– Ну, значит, все хорошо, – и она снова падает на подушку.
– Нет, дорогая, хватит спать. – Я рывком ставлю ее на ноги. Мне необходимо убедиться, что и сегодня она еще свободна от этого проклятия. Для меня самой уже слишком поздно: я приговорена, и от своего будущего мне не уйти, но, может быть, мне еще удастся спасти ее. Энни – такая худышка, все косточки можно пересчитать, я запросто поднимаю ее одной рукой. А потому, не обращая внимания на ее жалобное нытье, я подтаскиваю ее туда, где сквозь щель в стене просачивается слабый свет, и, остановившись в узком проходе между нашей лежанкой и постелью матери, начинаю ежедневный ритуал: через голову стянув с Энни рубашку, начинаю тщательно обследовать каждый кусочек ее кожи. Она покорно ждет, голая и дрожащая.
Я начинаю с боков, где у меня самой имеется округлая красная отметина, похожая на его яркий, точно вымазанный ягодным соком рот. На боках кожа у Энни чистая, белая, хоть и покрыта мурашками. Господи, все ребрышки наперечет! Я приподнимаю ее руки, со всех сторон внимательно их осматриваю, затем велю ей растопырить пальцы – нет ли отметины между ними, – потом изучаю кожу у нее под коленками и подошвы ног. У нее на коже алеют укусы блох, и она уже успела их расчесать, но это дело обычное; та отметина – я про себя молю Бога, чтобы никогда ее не найти, – должна быть плоской и темной. Это пятно никак не удалишь и ничем не смоешь, сколько ни пытайся. Господь свидетель: сама-то я не раз пробовала смыть свое. Энни послушно наклоняет голову, я приподнимаю ее волосы и осматриваю шею.
Нет, пока что она ему не принадлежит.
Я обнимаю сестренку, прижимаю к себе, баюкаю и наконец-то позволяю себе с облегчением выдохнуть:
– Ничего нет. – Каждый мой день начинается с этого осмотра. С необходимости подбодрить Энни. С предчувствия беды.
Обрадованная этим сообщением, сестренка выбегает в соседнюю комнату, проносится мимо пустой постели Джона и, завершив круг, возвращается ко мне, сияя и хлопая грязными ручонками.
– Наверное, я ему не нужна! – Она бодро вытирает нос тыльной стороной ладони и слизывает с нее сопли.
Я смеюсь и поспешно через голову натягиваю на нее платьишко, пока она снова не улепетнула в другую комнату и не влезла в очаг – она любит постоять в еще не остывшей золе, словно вбирая в себя оставшееся тепло.
Мама тоже встала и, завернувшись в одеяло, стоит в дверном проеме.
– Не приходил? – спрашивает она, и мне кажется, что этот привычный вопрос сам собой выскальзывает в дыру, возникшую на месте ее выпавших зубов.
Я отрицательно мотаю головой.
– Все равно он придет. Его ты ничем не остановишь, сколько ни старайся. – Мать мельком бросает взгляд на своего волшебного помощника в обличье зайца. Для нас этот «заяц» совершенно безвреден, но, по ее словам, он охотно выполняет любое ее поручение, разнося проклятья и всевозможную пагубу. Он является только матери, а мы узнаем о его присутствии, когда мать шепотом обращается к нему со словами любви или обсуждает с ним какие-то вредоносные планы. Вот и сейчас она, похоже, разговаривает с ним: «Мы-то с тобой, Росопас, отлично это знаем, верно?» Я пытаюсь разглядеть в золе отпечатки заячьих лапок или хотя бы промельк тела материного фамильяра, когда он вьется у ее ног. Но так ничего и не вижу.
Протиснувшись между тюфяком Джона и столом, мать подходит к очагу и машет Энни рукой, чтоб шла на улицу. Затем ковыряет кочергой безжизненную золу, которая, поднимаясь в воздух, оседает на заплесневелой стене. Одеяло уже соскользнуло с материных плеч, и на ее худой спине хорошо видны выступающие бугорки позвонков и та проклятая отметина.
– Дров-то у нас совсем нет, – говорит она.
– Я схожу на берег, принесу немного плавника. Заодно и съедобных ракушек подсоберу.
– Помоги мне сперва нашу красавицу хоть немного умыть.
Удрать Энни не успевает. Мать ловко ее перехватывает, а я, смочив чистую тряпицу в ведре с водой, начинаю отскребать с ее мордашки грязь. Она вопит, изворачивается, но вырваться из наших цепких рук силенок у нее все же не хватает. После «умывания» мы отдаем ей остатки позавчерашнего хлеба, но она все еще зла на нас.
– Дуры! – кричит она, стиснув кулаки и оскалившись. Мы с мамой едва сдерживаем смех при виде ее гневного лица, обрамленного торчащими во все стороны мокрыми патлами. – Тупые!