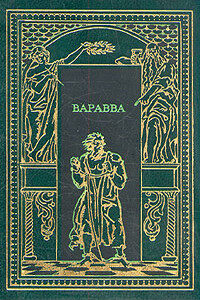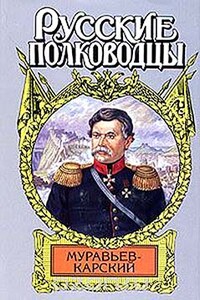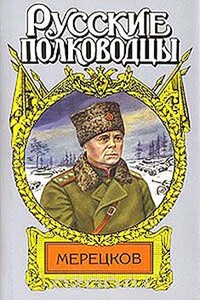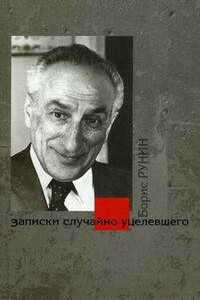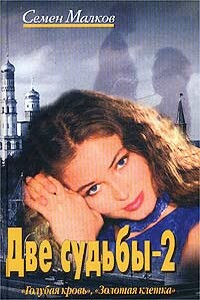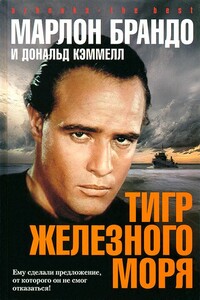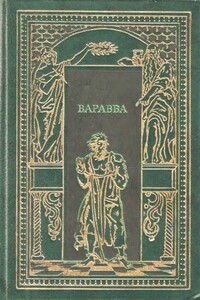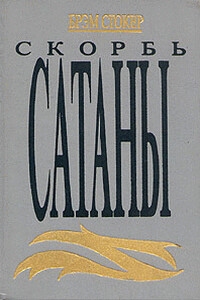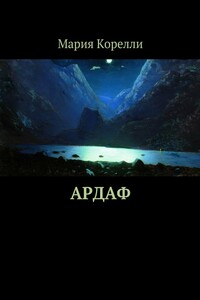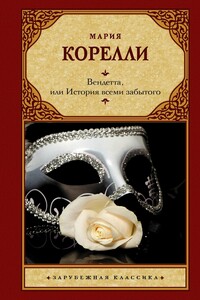Догорал длинный, знойный южный день.
Тяжелая жара была невыносима. Земляные полы тюрьмы источали ядовитое зловоние, отравлявшее небольшое количество проникавшего с воли воздуха. Царил глубокий мрак. Только тонкий светящийся лучик — скромный посланник пышущего жаром солнца — пробивался в одну из камер через небольшое отверстие вверху. Но свет раздражал узника, и он с проклятиями отворачивался, закрывал лицо скованными руками, кусая губы в бессильной злобе, пока рот не наполнялся кровью.
И хотя арестант часто впадал в такую ярость и смотрел на солнечный луч, мечом резавший плотный тюремный мрак, как на заклятого врага, светящийся столбик был не бесполезен узнику: по нему он судил о времени. Когда луч появлялся — начинался день, исчезал — и ночь вступала в свои права.
Существование в каменном мешке было мукой, каждый новый день не приносил ничего хорошего — заканчиваясь, он оставлял обитателя подземелья в еще большем, чем вчера, животном отупении. Но слепящий глаза свет мучительно напоминал о внешнем мире и не давал окончательно забыться. Заключенный здесь человек выдержал бы сияние яркого восточного солнца в открытом пространстве — никто не бросит такого смелого взгляда па огненный шар, царящий в синеве неба! Но в смрадной темнице эта тоненькая струйка света, излучаемого дневным светилом, казалась узнику воплощением вызова и злой насмешки. Корчась на подстилке из грязной, трухлявой соломы, он отодвигался подальше, в темноту, проклиная и судьбу, и людей, и Бога.
Он был не один. В угол, где он ежился как дикий зверь, была вмурована железная решетка, граничащая с таким же каменным мешком. Через эту решетку к нему тянулась изможденная, грязная рука. Пошарив в темноте, рука наконец нашла и потянула край его рубища; слабый хриплый голос позвал:
Он погнулся быстрым, гневным движением. Цепи его зазвенели.
— Чего тебе?
— Про нас забыли, — простонал жалобный голос. — Я умираю от голода и жажды и проклинаю тот час когда связался с тобой…
Варавва молчал.
— Ты помнишь, — продолжал тот же голос, — какое сегодня число?
— Не все ли равно, — отозвался Варавва, — месяцы или годы прошли-с тех пор, как нас сюда заточили… А ты знаешь?
— Восемнадцать месяцев прошло со дня убийства фарисея, — ответил сосед. — Сейчас идет пасхальная неделя.
Варавва не выразил ни удивления, ни интереса.
— Помнишь ли ты обычай Пасхи? — продолжал невидимый собеседник. — Один преступник, выбранный народом, должен быть отпущен на свободу! Ах, если бы это был кто-то из нас! Если невинность — заслуга, то выбор падет на меня. Бог моих отцов свидетель, что мои руки не запачканы кровью… Я фарисея не убивал… Немного золота — вот все, что я хотел…
— И разве ты его не взял? — прервал его Варавва. — Лицемер! Разве не ты ограбил фарисея, сняв с него все, до последнего украшения? Тебя схватили, когда ты зубами рвал с его руки золотой браслет. Не прикидывайся невинной овечкой! Ты — злейший вор в Иерусалиме!
За решеткой послышалось рычание разъяренного зверя. Затем после некоторого молчания опять раздался стон.
— Весь день без пищи! И ни капли воды! Я скоро умру! Умру в темноте и смраде! Стенания переходили в визг.
— Туда тебе и дорога! — устало сказал Варавва. — Зато каждый, кто имеет золото, может спать спокойно!
— Ты демон, Варавва!
Через решетку просунулась сжатая в кулак рука. Потом бледное, искаженное злобой лицо притиснулось к прутьям.
— Клянусь, я буду жить хотя бы для того, чтобы дождаться того часа, когда тебя поведут на казнь!
Варавва молча отодвинулся подальше от злобного соседа и, глянув вверх, облегченно вздохнул: ослепительно-золотое сияние сменилось мягким красноватым светом.
— Закат солнца, — бормотал он. — Вот час, который она любит! Она пойдет с рабынями к колодцу и будет отдыхать и веселиться, а я… я… О Бог мести! Я никогда не увижу ее лица! Полтора года в этой могиле и никакой надежды на избавление!
Узник резко встал, и голова почти коснулась потолка темницы. Кандалы снова напомнили о себе громким бряцанием. Поставив голую ногу на выступ стены, Варавва приник к щели, откуда пробивался горячий свет заходящего солнца, но мало что было видно ему — огороженная небольшая площадка сухой, выжженной земли, да одинокая пальма с чахлыми листьями. Пристально вглядываясь, он старался различить что-то в туманной дали, но истомленный долгим вынужденным постом, не смог удержаться и опустился на землю, продолжая мрачно следить за розовым отблеском солнца на полу.
Этот свет падал и на его лицо, оттеняя нахмуренные брови и темные негодующие глаза, освещал голую грудь и блестел на массивных железных наручниках.
Всклокоченные волосы и спутанная борода делали узника похожим на дикого зверя. Он был почти раздет: бедра опоясывал кусок полуистлевшей ткани, подвязанной грубой веревкой. Хотя было очень жарко, узник дрожал в этом душном мраке и, уронив голову на колени, пристально и упорно, как филин, смотрел на солнечный луч, который с каждой минутой бледнел, угасая. Днем луч был ярко-красный («Как кровь убитого мной фарисея», — со зловещей улыбкой подумал Варавва), теперь же он стал бледно-розовым, как румянец зардевшейся красивой женщины.