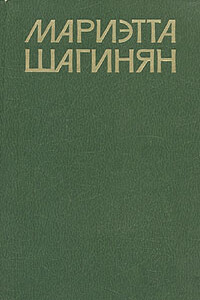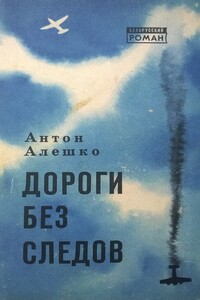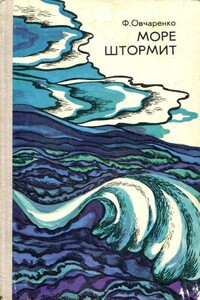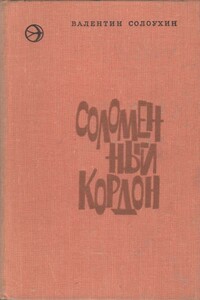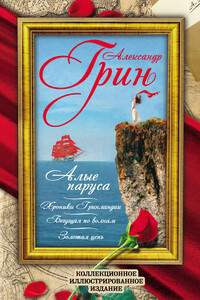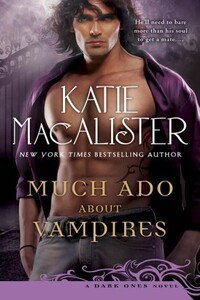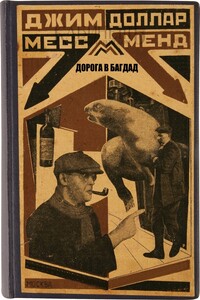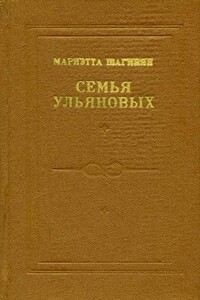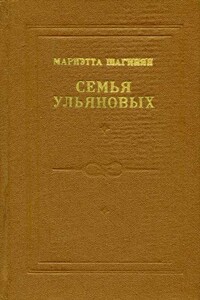Тонкий мальчик стоял без улыбки, чуть согнув ноги в коленях, — не потому, что дрожал, а потому, что привык карабкаться и гнуть ноги в горах, — отведя плечи и локти за спину, бледный и неподвижный, в куче крестьян.
Все они, парни и седобородые, старались для него целый месяц, от души старались, а сейчас, когда дело удалось, в глазах их, вместе с преувеличенным доброжелательством, светилась зависть. И голоса выходили из глоток тонкими, как ниточки.
Особенно егозил один парень. Вся честь подвига выпала на его долю. Это был тощий красноармеец-отпускник. Долго он ходил по деревне, мешая в работе и приставая к соседям. Виноват ли человек, что его сделали отпускником? Много твердили ему, о чем говорить с крестьянами и как учить их. А поучишь, когда сама старая майрик[1] Закарьян, та, что живет на кладбище, в пещерной дыре, ударила его по руке выше кисти и пробормотала нехорошее слово, — за то, что он хотел показать ей, как по ученым книжкам доят корову! И вот наконец работа по плечу отпускника. Вот пришла минута, когда покажет он, отпускник, все свое городское знание и силу.
Сняв шапку и колотя по ней кулаком, словно по барабану, он обводил толпу красноватыми, плохо пригнанными глазками — одним коренным, другим — пристяжкой. «Ну-ну-ну, — сверлил один глаз, — кто захочет это отрицать? Разве я плохо сделал, разве не тащу на себе деревню?» — «Так, так», — подмигивал другой сбоку, поглядывая на майрик Закарьян, стоявшую поодаль, скрестив руки и угрюмо выставив над платком, обмотанным вокруг рта, два тронутых трахомой глаза.
— Тогда я вышел вперед, старики! — вопил парень, то наступая па толпу, то отступая. — Вышел и говорю, — обрати, товарищ, вниманье. Ты, говорю, пролетаешь по деревням на машине, ты сидишь в городе, ты свою смену за глазами держишь, а я есть живая сила на местах. Двинь, товарищ, нашего парня.
— Это псаломщик сказал, — нетвердо возразил старик, — псаломщик сказал и вынес бумагу. Уж ты не сердись, Вахо, твои бумаги мы скрали. Без них ничего бы не вышло.
— Последнее дело бумага! — взвился парень и снова заколотил по шапке, собирая в нее вниманье. — Факт есть то, что я подтвердил этого селькора. Псаломщик ничего не сказал про селькора. Тогда товарищ с машины взял бумагу, начал читать и удивился. Соседу передал, и сосед посмотрел на нас. «Где он? — спрашивает товарищ. — Это поразительный случай». Я говорю: борьба с темными силами деревни, культурный фронт. А псаломщик опять портит. «Вахо, — говорит, — пастух, его сейчас нет, — говорит он, — а песни он поет еще лучше, чем пишет». Я ему сделал знак, чтоб молчал. Опиум не должен перед народом говорить.
— То-то ты и поговорил, — иронически вмешался рыжий псаломщик с зубами такими редкими, как лес после рубки, — ты ему фронт да фронт, а он тебе: оставь, товарищ, в стихах никакого классового сознанья, а только одна отсталая природа и беспартийность.
— В городе из него природу выведут! — разозлился парень. — Природа — не моя вина! На ваших местах буйвол не поворотится, не то что трактор. Вот шоссе недавно машинкой катали вроде танка. Пой про нее! Отчего не поешь?
Вахо страдальчески двигал веками. Он боялся понять, что случилось. А случилось такое дело.
Секретарь укома, в пропыленном автомобиле, шибко катясь к перевалу, вдруг возле самой деревни застопорил. Черный шофер полез под машину, долго лежал под ней на спине, дергая и ползая ногами во все стороны, как сороконожка в щели, а крестьяне не торопясь обступили дорогу. Шли они, густо наползая из землянок, молчаливые, сосредоточенные, с неподвижными лицами, и остановились невдалеке темными кучками, одного защитного цвета с кизяком, что стоит пирамидками возле земляного жилья. Новому человеку показалось бы: нет глупее этих безмолвных и безразличных лиц, безответней этих поджатых губ, бессмысленней этих больных красноватых глаз. Но секретарь укома знал, с кем имеет дело. И когда попросил у ближайшей молодухи напиться, та вынесла городской стакан с белой, как известь, жидкостью, — прохладную кислоту мадзуна,[2] разбавленного родниковой водой, — и равнодушно сказала:
— Зачем не сходишь? Сойди! Хлеб есть, сыр есть.
Это было началом. Каждый, слегка отделяясь от кучки и теряя защитный цвет, стал двигаться прямо к нему, из прорезей бронзового лица устремляя на него внезапно ожившие острые жучки-глаза. Словно облачка от выстрелов, поднимаясь там и сям, вспыхнули отдельные возгласы, а потом, перекинувшись мостиками, загудели вокруг него сразу все:
— Мальчик-грузин… пастух. Складные песни поет, очень складные. Возьми мальчика в город, учи его. Пропадет у нас ни за что!
Недаром Вахо пел песни деревне. Мать и отец его умерли в один день, уйдя на отхожий промысел в Борчалу. А кто из горных деревушек уходит в проклятую Борчалу, непременно подхватит малярию и погибнет с фельдшером или без фельдшера, — это все знают. Вахо застрял в армянской деревушке и вырос в ней. Он стал петь песни, сперва на родном языке, потом на армянском. Псаломщик учил его писать. Он остерегал Вахо от новых слов. Но у Вахо были собственные слова — не старые и не новые, и всякий раз, как он находил их, псаломщик думал про себя: «Есть, непременно есть такое слово в старом грабаре,