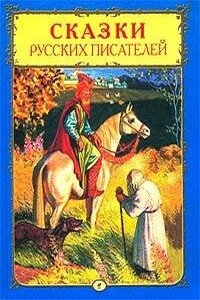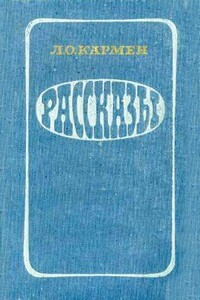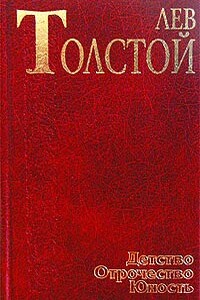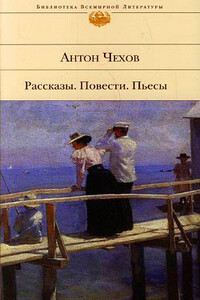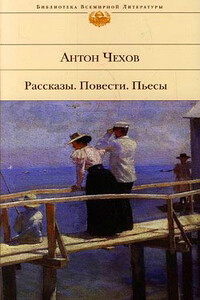А.Куприн
В медвежьем углу
Когда он рассказывал мне эту историю, - а рассказывал он ее не раз, я не узнавал моего электрического капитана (капитаном его называли не без основания за то, что он был отставным капитаном, уволенным из полка для пользы службы, а электрическим - потому, что он занимал какую-то мелкую должность в конторе общества электрического освещения). Его глаза, обыкновенно мутные и уклончивые, делались ясными и твердыми. Его всегда сиплый голос старинного алкоголика звучал вдруг такими нежными, глубокими тонами, каких я никогда не ожидал от него услышать, и весь он на эти несколько минут как будто бы проникался внутренним сиянием, делающим человека, даже совсем низко павшего, прекрасным.
- Это случилось так. Гри батальона нашего полка стояли в самом омерзительном из грязных губернских городов юго-западного края, а один из батальонов поочередно посылали на осень, зиму и весну на пограничную черту, за шестьдесят верст от штаба полка. Батальон, вы сами понимаете... это четыреста человек солдат и пятнадцать офицеров, включая сюда батальонного командира и трех подпрапорщиков. Конечно, за долгую зиму мы все уже успели друг с другом перессориться. Это явление наблюдается и в тюрьмах, и в долгих пароходных рейсах, и в больших семьях, и вообще всюду, где люди осуждены на вынужденное длительное, скучное сожительство. Выходили фамильные ссоры, сплетни, обидные недоразумения, проще - то, что называется в провинции, на севере - "контрами", на востоке - "козьими потягушками" а на юго-западе - "суспициями". Местные жители - католики и менониты - или чуждались пас. или мы сами, храня свое офицерское достоинство, считали неудобным входить с ними в близкое знакомство. Местная же аристократия, преимущественно польские графы, совсем не обращали на нас внимания, на наши визиты отвечали оскорбительно учтивыми трехминутными визитами и затем забывали о нашем существовании. Что же мудреного, что мы, молодые офицеры, коротали длинные зимние вечера в гостях поочередно друг у друга, пили в ужасающем количестве омерзительную водку, взя- тую в кредит из еврейских шинков, закусывали ее микроскопическим кусочком сала поджаренного и под аккомпанемент вдребезги разбитой гитары пели старинные, давно забытые миром куплеты...
...Когда случится нам заехать
На грязный постоялый двор,
То, не садясь еще обедать,
Мы к рюмке обращаем взор.
Тогда мы все люли-люли
Готовы петь крамбамбули.
Крам-бам-бим-бамбули,
Крам-бам-були.
Когда мне изменяет дева.
Недолго я о том грущу:
В порыве яростного гнева
Я пробку в потолок пущу.
Тогда мы все люли-люли...
А то еще пели мы и нежные песни. Вот, например... Тут капитан вдруг расчувствовался, всхлипнул от слез и запел самым, вероятно, фальшивым голосом на свете:
Пче-олка злата-ая,
Что-о ты шумишь?..
Все вкруг летая,
Про-очь не летишь...
Ну да ладно... не в этом дело. Я увлекся воспоминаниями. И вот, знаете, наступили рождественские праздники, и все офицеры нашего батальона, начиная от командира и кончая самым беспардонным тридцатипятилетним фендриком, потянулись в город. Женатые к женам и детям - согласитесь, они ведь не могли с собою брать их в гнусное местечко, где все дома - мазанки из глины и коровьего помета и где нет ни одного врача на случай болезни. Холостые задолго еще перед рождеством мечтали о балах в гражданском клубе и в офицерском собрании, о ярко освещенных теплых залах, о музыке, о танцах, о прелестных женских и девичьих лицах, телах и улыбках, а кое-кто и о зеленом столике, ча которым можно прометать банк и оставить всех партнеров без единой копейки. Соблазн взять от- пуск на рождество был так велик, что младшие офицеры решили бросить между собою жребий: кому ехать, кому оставаться в местечке по долгу службы. Но я сказал, что без всякого жребия с удовольствием останусь здесь. Этому удивились. Тогда я пояснил, что думаю воспользоваться несколькими свободными днями, для того чтобы без помехи подзубрить тактику, французский язык и уставы. Я в то время готовился в академию генерального штаба, поэтому мне охотно поверили и оставили меня в покое, с эгоистичной поспешностью и с фальшивыми сожалениями.
Теперь, говоря высоким штилем, "бросая ретроспективный взгляд" на мое прошлое, я понять не могу, что их всех так влекло в эту грязную губернскую трущобу, в сравнении с которой какой-нибудь Конотоп или какая-нибудь Чухлома кажутся столичными европейскими городами: однообразность жизни? бледность воображения? скука? тоска по людям?.. Нет, нет, я не смею осуждать их, спаси меня бог! Я только издали гляжу на вещи и события.
На весь батальон нас осталось только двое офицеров: командир седьмой роты Плисов и я. безусый субалтерн. Но Плисов давно уже лежал в постели, снедаемый последними натисками жестокой чахотки, и. таким образом, я очутился фактически властителем над жизнью и смертью четырехсот человек солдат, а также и всего местного населения.
Не будь одного обстоятельства, о котором я сейчас скажу, я бы не отказал себе в удовольствии поставить солдатам несколько ведер водки, раздать им боевые патроны, объявить по телеграфу войну соседнему государству и вторгнуться в его пределы, подобно Ермаку, чтобы потом положить новую завоеванную землю к подножию монаршего престола. Но меня увлекла совсем другая мысль. Нежная и беспокойная. Дело в том, что у командира пятой роты, у которого я был под начальством, у капитана Терехова, была жена... Нет, вернее, не жена... Видите ли, у нее был где-то законный муж, и они жили просто так... свободно... не в особенно пылкой любви, благодаря долговременной связи, но в прочной дружбе и взаимном самоуважении. Была она этакая маленькая, но крепкая, великолепно сложенная женщина, с огромными серыми глазами, с крошечными прелестными ручками и ножками, страстная, живая насмешница, с открытым и пылким характером, остроумная, участливая к чужой беде - словом, очаровательная женщина и чудесный товарищ.