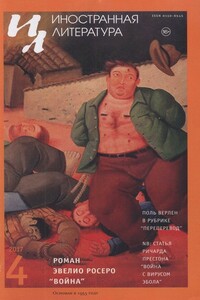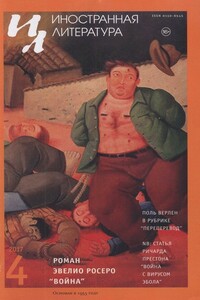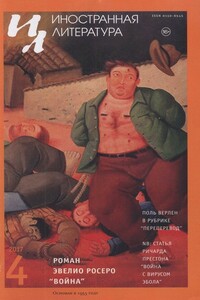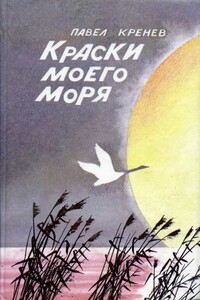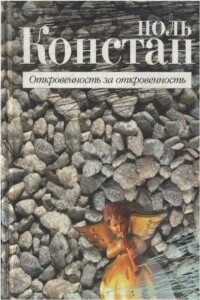Приближался день, когда придет моя дорогая Милена, и меня охватывает отчаяние. Я еще даже не приступал к решенью вопроса о том, чем буду ее угощать. Даже еще не приступал к обдумыванию этой мысли, только кружил вокруг, как кружит мотылек вокруг лампы, обжигая об нее голову.
Я так боюсь, что не додумываюсь ни до чего, кроме картофельного салата, но он для нее уже не станет сюрпризом. Нет, это невозможно.
Мысль об обеде не покидала меня всю неделю, давя на меня непрестанно, вот так на морской глубине нет места, где бы на вас ни давил пласт воды. Вдруг я собираю все силы, берусь разрабатывать это меню, и будто меня заставляют гвоздь вколачивать в камень, и сам я — сразу — и тот, кто бьет молотком, и гвоздь. А то вдруг я сижу себе вечерком и читаю, с миртом в петлице, и встречаю в книге такие прекрасные пассажи, что даже сам себе кажусь прекрасным.
С тем же успехом я мог бы сидеть во дворе сумасшедшего дома и пялиться в пространство, как идиот. И все равно я же знаю, что в конце концов я остановлюсь на каком-то меню, куплю продукты, приготовлю обед. В этом, по-моему, я похож на бабочку: ее зигзагообразный полет так неверен, она так бьет крылышками, что больно смотреть, она летит как угодно, но только не по прямой, и, однако же, успешно одолевает многие, многие мили и достигает места своего конечного назначения, а стало быть, она куда расторопней и, во всяком случае, куда целеустремленней, чем кажется.
Терзать себя — жалкое занятье, конечно. В конце концов, не терзал же гордиева узла Александр, когда тот никак не развязывался. Я как будто заживо себя погребаю под всеми этими мыслями, и в то же время чувствую, что должен лежать и не шевелиться, потому что я, может быть, уже умер на самом деле.
Сегодня утром, например, незадолго до того как проснулся, хоть и уснул я недавно, я видел сон, и никак не могу с себя стряхнуть этот сон: я поймал крота и отнес на поле хмеля, а там он канул в землю, как в воду, и был таков. И когда я думаю про предстоящий обед, мне хочется провалиться сквозь землю, как этот крот. Хорошо бы забиться в ящик бельевого комода и только время от времени, чуть приоткрыв ящик, проверять, не задохнулся ли я уже. Куда удивительней, что вообще каждое утро встаешь с постели.
Я знаю, винегрет был бы лучше. Можно угостить ее и картошкой, и свеклой, и бифштексом, если я мясо включу. Но хороший кусок мяса не требует гарнира, он вкусней без гарнира, так что гарнир можно подать предварительно, правда, в таком случае это будет уже не гарнир, а закуска. Что бы я ни приготовил, она, возможно, не очень высоко оценит мои усилия, а возможно, она почувствует легкую дурноту, и свекла эта на столе будет только ее раздражать. В первом случае мне будет мучительно стыдно, а во втором — я даже не знаю, как тут быть и откуда мне знать, кроме как задать один простой вопрос: может, она хочет, чтобы я убрал всю эту еду со стола?
Не то чтобы этот обед меня страшил. В конце концов, есть у меня кой-какая энергия и воображение, и я, возможно, сумею приготовить такой обед, какой ей придется по вкусу. Были же другие, сносные, обеды и после того блюда для Фелицы, которое стало таким провалом — хоть из него проистекло, может быть, больше пользы, чем вреда.
Я на прошлой неделе пригласил Милену. Она была со знакомым. Мы встретились случайно, на улице, и я возьми и выпали приглашение. У спутника ее было доброе, дружелюбное, пухлое лицо — очень правильное лицо, как бывает только у немцев. Пригласив ее на обед, долго еще я бродил по городу, бродил, как по кладбищу, такой покой царил у меня на душе.
А потом я стал терзаться, как цветок в цветочном ящике, охлестываемый ветром, но не теряющий ни единого лепестка.
Как в письме, усеянном помарками, есть и у меня свои недостатки. Прежде всего, я отнюдь не силач, а ведь Геракл и тот, кажется, однажды упал в обморок. Весь день на службе я стараюсь не думать о том, что мне предстоит, но от меня это требует таких усилий, что на работу ничего уже не остается. Я перевираю телефонные номера, и барышни-связистки уже отказываются меня соединять. Не лучше ль сказать себе: «Иди-ка ты лучше домой, начисти как следует столовое серебро, выложи на буфете и пусть с этим будет покончено», ведь все равно я мысленно весь день его чищу — вот что мучит меня (без всякой пользы для серебра).
Я люблю немецкий картофельный салат из старой, разваристой картошечки с уксусом, хоть он такой тяжелый и сытный, что меня подташнивает еще до того, как я за него примусь, — будто я усваиваю подавляющую и чуждую культуру. Если я его предложу Милене, я предстану перед ней с такой грубой стороны, от которой лучше ее уберечь, с такой стороны, какой она еще не знает. Французское же блюдо, пусть и более тонкое, стало бы изменой себе, непростительным, может быть, предательством.