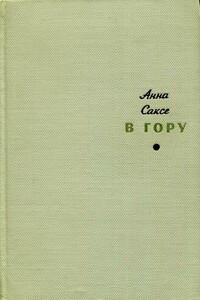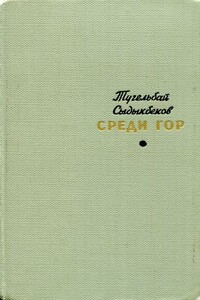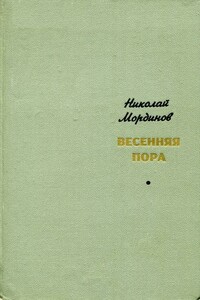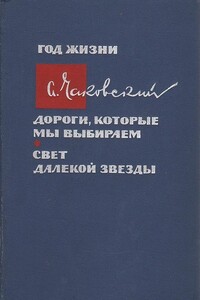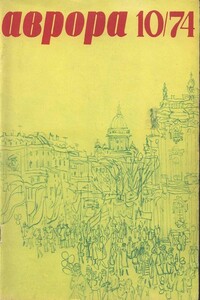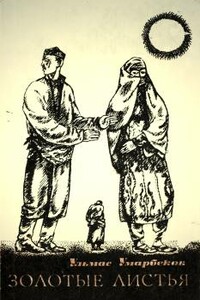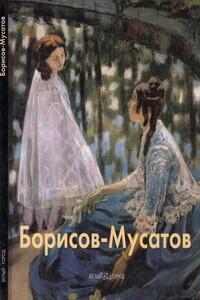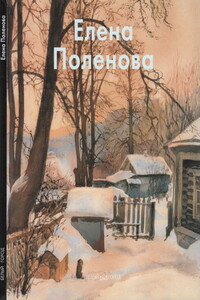В последний день солнечного августа, под вечер, Юрис Озол вместе с группой советских работников на грузовике прибыл в уездный городок своей родной стороны, откуда только вчера были выбиты немцы.
Вид городка — разбитые пулями и снарядами дома и еще дымившиеся развалины станции — не удивил прибывших. По дороге сюда они останавливались в Пустошке, Идрице, проезжали через Резекне и с волнением смотрели на разрушения. Многие из них, преследуя по пятам фашистского зверя, прошли длинный путь через болота и леса и видели опустошенные районы. Теперь эти люди — в большинстве инвалиды войны — и составляли оперативную группу советских работников, которая должна была восстановить органы Советской власти в уже освобожденных уездах и волостях.
«Вот она — твоя родина, — думал Озол, обходя город, — о ней ты так мечтал, стоя на посту в трескучий мороз и в летний зной. Да, это — родина, за которую отдано столько сил и жизней. Раньше казалось, что после всего, перенесенного в эти ужасные годы на поле боя и в госпиталях, стоит только ступить на родную землю и ты почувствуешь радость, удовлетворение». «Так ли это?» — спросил он себя. «Нет, не так!» — казалось, крикнул кто-то в ответ. Возможно, сказывалось суровое дыхание близкого фронта, находившегося лишь в четырех километрах, возможно, впечатление это создавал изменившийся до неузнаваемости город, но Озол не чувствовал ни тепла родины, ни сладости возвращения, которые предвкушал в своих мечтах в болотах под Старой Руссой. И, только обойдя полгородка, заглянув в пустые, оставленные открытыми квартиры чужих и знакомых ему людей, он понял, что именно от этой пустоты веяло холодом, вызывавшим оцепенение. Была земля, был полуразрушенный город, но не было людей. Во всем городе он встретил лишь нескольких старичков, которые при виде вновь прибывших испуганно спешили скрыться в ближайшем переулке. Видимо, многие еще не вышли из лесов, — ведь только вчера здесь, на улицах, трещали винтовки и пулеметы и сегодня сюда еще залетали отдельные снаряды, рвавшиеся на дороге у кладбища и на соседнем болоте.
И вдруг сердце Озола, словно острой иглой, кольнула мысль, которую он чем ближе был его дом, тем настойчивее старался отогнать. Это была мысль о семье — о жене, сыне и дочери, не успевших тем летом уехать отсюда. В то время он был председателем волостного исполкома и, услышав приближавшийся грохот войны, поехал в этот городок, чтобы посоветоваться, как поступить, но обратно его не пустили, — уже отходил последний эшелон. Сознание, что он оставил семью на произвол судьбы, мучило его все эти годы. Как часто он обвинял себя в предательстве, называл последним негодяем, ради спасения собственной шкуры бросившим даже детей. Он оправдывался и убеждал себя, что другого выбора не было, и хорошо, что хоть он один вырвался на другую сторону, чтобы потом пробиться обратно. И все же на фронте, в минуты затишья, эта рана не заживала.
А теперь он ходил по пустынному городку и искал кого-нибудь, кто бы знал его семью и мог сказать хотя бы несколько слов о ее судьбе. Ведь обычно в сельской местности все друг друга знают если не лично, то через общих знакомых, и каждое событие обсуждают и помнят.
Вот домик, где раньше жил железнодорожник Звиедрис, его друг детства, с которым они вместе ходили в пастухах. Но уже издали видно, что у дома сорван край крыши, а окна открыты настежь. Озол подошел к окну и заглянул в комнату. В углу была опрокинута голая железная кровать. На нее брошена детская кроватка с оторванной сеткой, на железном пруте висела целлулоидная погремушка. По комнате были раскиданы изорванные книги, осколки разбитого зеркала. Несколько стульев со сломанными ножками валялись у стены.
Озол отвернулся и пошел обратно к дому, где расположились прибывшие. Некоторые из них нашли комплекты «Тевии» и листали страницы, которые, словно зловонным мусором, были начинены клеветой на большевиков и слюнявым заискиванием перед немцами. Читая напечатанные огромными буквами заголовки, Озол испытывал странное чувство — точно такое же, как в детстве, когда ему случалось увидеть змею, свернувшуюся на груде камней и с шипением поднимавшую голову, а под рукой не было палки, чтобы ударить гадюку.
Все, чему Озол и его товарищи были свидетелями на фронте — убийства, груды детских трупов, изуродованные пленные, взорванные церкви и сожженные деревни, — сочинители этих страниц лжи сваливали на большевиков. Сплошным бредом сумасшедших были статьи, написанные после перехода Красной Армией границы Латвии. Неизвестно почему, отвращение к этим истрепанным, замусоленным листкам напомнило об испытанной недавно пустоте. Неужели люди поверили бреду этих выродков и оставили свои дома, свою землю, добро и пошли за теми, чье истинное лицо они так хорошо видели? Разве тот же Звиедрис, пустой дом которого как бы издевался над приехавшими, верил клеветническим утверждениям «Тевии», но не верил ему, своему другу, не ждал его или же боялся, что он, вернувшись, вырвет у него ногти или посадит его на кол? Где ответ?..
Озол отмахнулся от этого, так угнетавшего его вопроса. Ответ на него он ведь ежедневно слышал на протяжении всего своего боевого пути от Москвы до Старой Руссы, где его ранило. Слышал от спрятавшихся в земле русских крестьян, которым удалось уйти от немецких жандармов и их собак. И все же он испытывал нечто вроде разочарования в друзьях из-за того, что они смогли оставить свою землю, не спрятаться в ней, не скрыться в дремучих лесах.