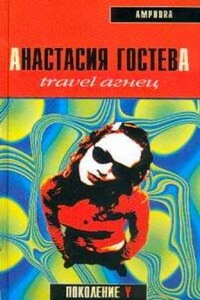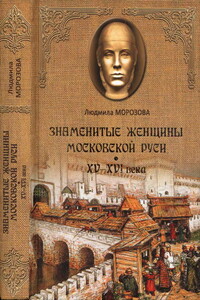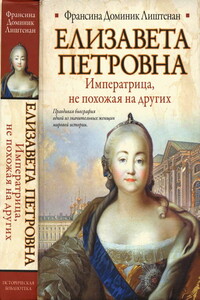…Словно издалека откуда-то, исподволь, язычком щекотливым и робким проступила украдкой истома. Легкая изначально, она, между тем, нарастала наплывчато, полонила собой неприметно, лукаво — покрывая испариной неторопливо, задыхаясь в лицо на ходу с равнодушным упрямством, ступая тишком, черной тучей свинцовой след в след нависая вприглядку угрюмо… Как вдруг охватила внезапно, нахлынула, выплескивая через край, в раз овладела им всем, всей его сущностью.
«Вырваться, вырваться… всласть распрямиться всецело, решительно».
Так душным днем в электричке набитой, сальной, сытым змеем с ленцою ползущей по рельсам чугунным уныло, неспешно…
Он встрепенулся, рванул, устремившись отчаянно, и только с жаром липучим отрывисто брызнуло кропотливо увитое тело. Заморщинев на-тужно, багрово, полоснул тишину наугад безутешным надрывом… И, как глоток упоительный, свежий — материнской любви шелковистое пламя, снизойдя, прикоснулось ладонью лучистой, лепестком-незабудкою первой весны.
С каких лет мы себя помним?
С двух-трех… ну четырех, обычно. И когда Игнат порой в разговоре простом компанейском вдруг скажет (не без претензии на ори-гинальность, разумеется), что помнит себя даже с самых первых дней своих, ему, конечно же, не верят.
Но это и вправду так.
Как наяву перед ним, к примеру, и победные вскрики, блеск глаз, торжество и усмешки вокруг, когда он впервые, держась несмело слабенькой ручкой за скользкие стены, одолел вкруговую успешно огромную зальную комнату. Прекрасно помнит он и свои чувства в те самые мгновения, это были чувства человека, совершившего вдруг что-то грандиозное… И, словно в порыве вдохновения неудержимом, он вновь триумфально исполнил тот памятный круг, чтобы снова услышать победные вскрики, чтобы снова увидеть в глазах торжествующих блестящее восхищение своим подвигом.
Слова свои первые он тоже хорошо помнит.
Мать мелодично в напев, по слогам повторяясь, выговаривала самое простенькое, а он, неотрывно внимая, вглядываясь пристально в четкую мимику ее губ, наподхват повторял вслед за ней эти нехитрые звуки.
— Молодец… молодчина! — говорила она в тот день, ее глаза лучи-лись счастливой и словно удивленной немного усмешкой.
Из ниоткуда комочком горластым продравшись вслепую, внезапно, нечаянно, и в никуда в тот же миг невзначай ускользая — мы с первых дней как в лесу незнакомом, до странности дивном, внимая пытливо, в оглядке растерянной…
И все те бесконечные вопросы, которые задавал Игнат взрослым в свои первые годы, касались непосредственно как раз того, что он наблюдал вокруг. А интересовало его все, он спрашивал обо всем, только вот на очень немногие вопросы взрослые ему могли ответить.
— Что это? — спрашивал он снова мать, показывая ладошкой на незнакомое дерево.
— Дерево.
— Так и то дерево, так ведь?
— Так то березка… а это каштан.
— А почему то «березка», а это «каштан»?
— Потому, что названия такие.
— А почему названия такие?
— Потому… потому-у… потому что назвали так.
— А почему, почему назвали так?
— Почему-почему… да потому! — в конце концов, перебивала мать решительно. — Отстань, почемучка, не задавай глупых вопросов.
Последнюю фразу мать всегда выговаривала совершенно не так, как прочие. Последнюю фразу она выговаривала всегда, словно заучено, скороговоркой привычной, словно она уже не раз прежде говорила или слышала ее. Тогда Игнат еще не знал, как отличить вопросы «глупые» от разумных и правильных, поэтому все его любопытство безмерное неизменно заканчивалось именно этой фразой, сказанной матерью так, или иначе в зависимости от настроения.
Читать он научился задолго до школы. Вскоре даже опережал мать, когда она, держа в руках тоненькую книжечку, водила терпеливо согнутым пальцем по раздельным слогам.
— Молодец… молодчина! — снова раз за разом выговаривала мать улыбчиво, но теперь Игнат уже и сам про себя удивлялся: «И чему так радоваться, я же запросто!»
Очень даже запросто теперь он мог и выучить коротенькое стихотво-реньице наизусть, а потом прочитать перед новогодней елкой.
Новогодние праздники!
В детстве они всегда были самыми памятными, самыми ожидаемыми, совершенно непохожими на праздники другие, пролетавшие по обыкновению совсем незаметно, как наскоро за один-единственный день… Дед Мороз, Снегурочка, конфетти, душистая нарядная елка… и подарки, подарки! Сначала у отца на работе в просторном фойе поликлиники, потом в школе, потом не раз еще в гостях у друзей и знакомых, и, наконец, елка всегда самая памятная — дома… Словно радушно, приветливо распахивались настежь, расписные морозцем ядреным, широкие двери в чудесную зимнюю сказку, которая повторялась день за днем снова и снова… И пусть бы всегда.
Снегурочка объявляла, а дед Мороз легонько подхватывал Игната на высокий, разукрашенный гирляндами стул у самой елки. Волнуясь, но всегда четко, уверенно декламировал он наизусть несколько новогодних куплетов и под аплодисменты с подарками в руках торжественно шествовал к друзьям под восторженный шепот:
— Четыре годика всего… Вишь молодец, молодчина какой!
Дома у них была неплохая библиотека, которая едва умещалась за прозрачными стеклами тогда еще новенькой, изготовленной из темного полированного дерева, широкой мебельной стенки. Игнат давно заприметил там самый толстый затрепанный роман, название которого также заинтересовало его чрезвычайно. Первым словом в нем было такое интригующее слово «битва».