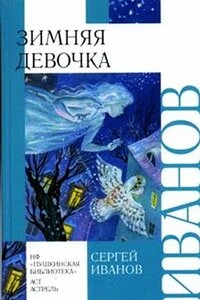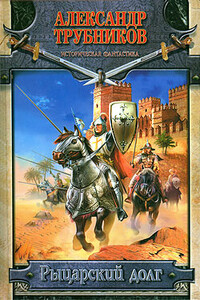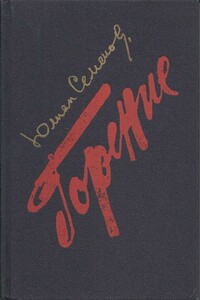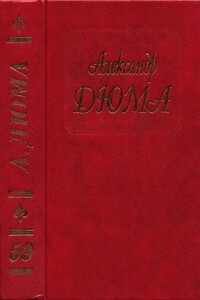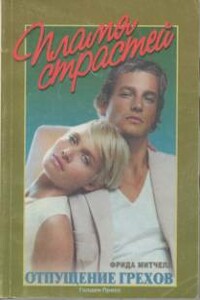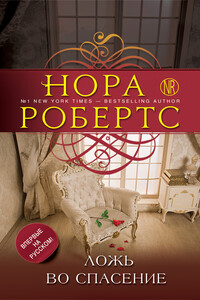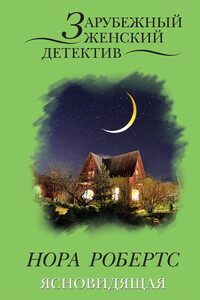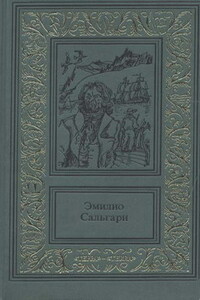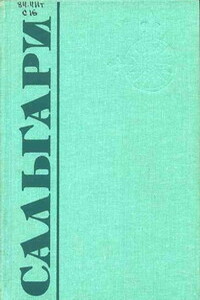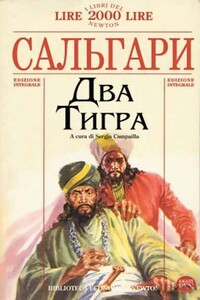— Вперед, клянусь смертью Магомета и всех его гурий!
— Нет больше сил, сержант!
— Что, негодяи? Еще отвечать осмеливаетесь!
— Вы хотите всех нас уложить на месте…
— И сдохнете, канальи! Вы что же, думали, что вас в Алжире ждут веера, мороженое, сигары да пальмы, чтоб валяться в их тени! Вперед! А не то, клянусь смертью Магомета, всех вас под военный трибунал в Алжире!
— Мы выбились из сил, сержант, — ответило несколько хриплых голосов, в которых, казалось, не оставалось ничего человеческого.
— Вахмистр смотрит, и я вовсе не желаю из-за вас сидеть в тюрьме. Марш! Еще слово, и прикажу Штейнеру намять вам кости. Небось, знакомы с кулаками мадьяра! Ну, вперед. Бегом!
Возвысился один голос, сухой, как выстрел из карабина:
— Я его прикончу, этого негодяя! Я клятву дал, сержант.
— Кто это сказал?
Никто не отвечал.
— Вперед! Говорю, бегом. Вахмистр смотрит. Вперед!
Двадцать человек, одетых в белое парусиновое платье, без башмаков и оружия, но нагруженные огромными ранцами, какие обыкновенно носят солдаты Иностранного легиона, отправляемого Францией в ее африканские и азиатские колонии, отчаянно бросились вперед, пыхтя, все покрытые пылью, в то время как сержант-инструктор продолжал отчаянно ругаться. Сержант-инструктор! Какая насмешка! Мучители, палачи — все что угодно, только не инструкторы. Многие из них знают только одно — мучить, насколько возможно, тех несчастных, которых военный трибунал Алжира или Константины отправил в дисциплинарные роты в жгучем Алжире, в так называемом аду бледа.
Блед — это лагерь, предназначенный для поселения несчастных, которые завербовались в Иностранный легион и в минуту возмущения, вызванного палочной дисциплиной, дурным обращением или губительным климатом, проявили непослушание начальству.
Блед всегда помещается вдали от Средиземного моря и даже от города, можно сказать — среди пустыни.
Это огромный плац, окруженный бараками и палатками с одним зданием, совершенно белым, для капитана — начальника роты, его офицеров и субалтерн-офицеров[1]. Есть также маленький лазарет.
На этом плацу, пыльном, залитом жгучим солнцем, без капли тени, дисциплинарными ротами проводится учение, состоящее только в быстром беге с ранцами за спиной и быстро сводящее в могилу несчастных осужденных.
Однако бывают некоторые отступления: иногда заставляют возить тачки. Тогда солдат бежит, толкая перед собой тачку, наполненную песком. Он должен нагружать и разгружать ее по команде; и это продолжается до тех пор, пока он не упадет в полном изнеможении или пораженный солнечным ударом!
Двадцать человек, погоняемые ругательствами сержанта и охраняемые сильным конвоем конных спаги[2], державшихся, однако, в тени белой казармы, продолжали свой бег. Глаза у них выкатывались на лоб, лица побагровели, грудь прерывисто вздымалась, рубашки взмокли от пота.
Впереди бежал легионер-красавец лет тридцати, смуглый, с черными глазами, сверкавшими как угли, с большим лбом, изборожденным преждевременными морщинами. В его могучих мускулах должна была скрываться более чем необыкновенная сила.
Несчастные три или четыре раза обежали плац под неумолимым потоком солнечных лучей, поднимая удушливую пыль, когда сержант, смотревший насмешливым взглядом на передового легионера, закричал:
— Номер первый, в галоп!
По этому приказу передовой должен был ринуться во всю мочь, как лошадь, пущенная в карьер, и бежать в хвост колонны.
Но вместо того чтобы повиноваться, он вдруг остановился, отступая немного в сторону, чтоб его не толкнули товарищи, двигавшиеся, опустив головы и качаясь под огненным потоком лучей, лившихся с неба.
— Ты что это делаешь, венгерская собака? — закричал сержант, наступая на него со сжатыми кулаками.
Легионер взглянул на него холодно и ответил хриплым голосом, выдававшим ярость, сдерживаемую неимоверным усилием:
— Из сил выбился. И не будь вы Рибо, кто знает, что бы случилось сейчас.
— Как, ты выбился из сил? Ты, силач, которого боится сам Штейнер, твой соотечественник?
— Сил больше нет, — повторил венгр.
— И ты полагаешь, этого достаточно, чтобы перестать плясать? Нет, любезнейший, побегай-ка еще…
Легионер сделал энергичный жест протеста.
— Довольно, — произнес он. — Это жестоко с вашей стороны.
— Я повинуюсь регламенту, мой милый.
— Надрывая у людей грудь и ломая ноги?
— Попробуй поговорить с начальством, — ответил сержант несколько смягченным голосом, пожимая плечами. — Ну, ступай на свое место, Михай Чернаце, и старайся повиноваться. Я на тебя не сержусь, потому что слышал от Штейнера, что еще до поступления в легион ты был знатным господином и дрался в Мексике как лев. Ты один из четырех, пробившихся через целую армию.
— Тем больше причин не убивать меня так, без толку, — ответил венгр, и его черные глаза будто подернулись влагой.
— Того требует регламент. Ну, ступай назад. Твое место займет другой.
— Нет, не дам товарищу мучиться за себя; как-нибудь сам. А все же лучше бы, сержант, если бы нас посылали умирать от пуль кабилов или туарегов[3] в пустыне, чем так варварски мучить. Ведь все же, в конце концов, мы проливали свою кровь за Францию, а она не наша родина!