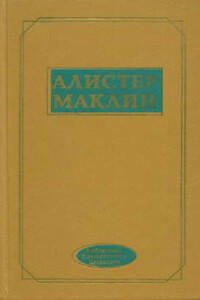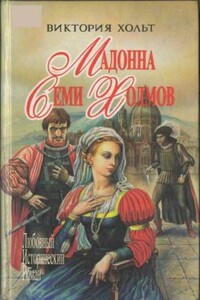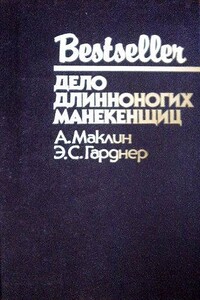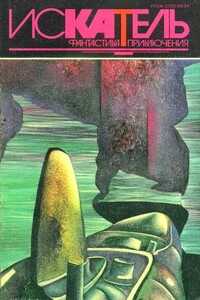В салуне Риз-Сити, носившем громкое название «Имперский», витал дух упадка, заброшенности и щемящей тоски по великолепию минувших дней. Неровно оштукатуренные стены были покрыты трещинами и пятнами грязи. Их стыдливо пытались прикрыть невесть как попавшими сюда афишными портретами усатых головорезов, под которыми отсутствие надписи «разыскивается», казалось неправдоподобным упущением. Выщербленные доски пола покоробились и имели такой цвет, по сравнению с которым стены имели вид девственной свежести. Вокруг плевательниц, поставленных для того, чтобы в них никто не попадал, валялись тысячи окурков. Они покрывали пол в несколько слоев, и обугленный предыдущий слой свидетельствовал, что курильщики почти всегда не давали себе труда загасить их. Абажуры масляных ламп, как и потолок над ними, почернел от копоти. Высокое зеркало за стойкой было загажено мухами.
Не лучше выглядели и посетители — немолодые, небритые, потрепанные жизнью и павшие духом люди. За редким исключением они высматривали свое будущее на дне стаканов с виски.
Одинокий бармен в фартуке, благоразумно перекрашенном в черный цвет, что раз и навсегда решило проблему стирки, разделял настроение своего заведения. Орудуя полотенцем, на котором лишь с трудом удалось бы выискать следы первоначального белого цвета, он пытался решить невыполнимую задачу — натереть до блеска надтреснутые и выщербленные стаканы. Его немыслимо медленные движения создавали убедительное представление о пластике кретина, страдающего артритом.
Но все-таки и тут был оазис, в котором журчал ручеек человеческих голосов. У самой двери находилось семь человек, из которых трое сидели на скамье у стены. Тот, кто сидел в середине, был в форме кавалерии Соединенных штатов. Худощавый, высокий, с загорелым лицом и морщинками в уголках умных глаз, он выглядел лет на пятьдесят. Он был гладко выбрит, а его зачесанные назад волосы отливали блеском самородного серебра. Но в этот момент выражение его лица вряд ли можно было назвать обнадеживающим.
Напротив него, по другую сторону стола, стоял высокий, мощного сложения человек, с угрюмым лицом, которое украшала полоска черных усов. Одет он был во все черное, и на его груди поблескивала звезда шерифа. Он говорил:
— Полковник Клермонт, при обстоятельствах…
— Закон — прежде всего. — Полковник был вежлив, но категоричность его тона была точным отражением его облика. — Я занят делом армии, а ваше дело — гражданское. Мне жаль, шериф, э… мистер…
— Меня зовут Натан Пирс.
— Прошу прощения, мне следовало знать… — в голосе полковника не было и нотки сожаления. — Я могу допустить в эшелон штатских только по разрешению Вашингтона, мистер Пирс.
— Мы все находимся на службе федерального правительства… — снова начал шериф.
— По армейским понятиям — нет.
— Понятно.
Пирс медленно обвел взглядом остальных пятерых. Лишь один из них был в форме, кроме того, среди них находилась женщина. Пирс принялся сосредоточенно рассматривать тощего человечка с воротником проповедника, с необычайно высоким и выпуклым лбом, догоняющим отступающие волосы, и с выражением постоянной тревоги на лице. Преподобному стало не по себе под этим упорным взглядом, и его кадык судорожно запрыгал, словно он пытался проглотить что-то частыми и мелкими глотками.
Клермонт сухо произнес:
— Преподобный Теодор Пибоди имеет особое разрешение. — Полковник даже не взглянул на проповедника, и стало ясно, что его уважение к этому человеку имеет определенные границы. — Он получил его через своего кузена — личного секретаря президента. Мистер Пибоди собирается стать священником в Вирджиния-Сити.
— Где? — Пирс отвел взгляд от совсем съежившегося проповедника и недоверчиво посмотрел на Клермонта. — Он сумасшедший! Даже среди индейцев паютов он прожил бы дольше.
Пибоди сделал последний глоток и облизнул губы.
— Кажется, паюты сразу же убивают всякого белого, который попадется им на глаза.
— Убивают. Но не спешат, — Пирс мрачно улыбнулся и вновь осмотрел всех шестерых, сидящих перед ним за столом.
Рядом с совершенно уже перепуганным преподобным сидел человек в пестром клетчатом костюме. Его тяжелые челюсти были под стать фигуре, широкой улыбке и, как оказалось, зычному голосу.
— Разрешите представиться, шериф, — доктор Эдвард Молине.
— Если вы тоже в Вирджиния-Сити, док, то у вас там масса работы — заполнять свидетельства о смерти. Боюсь только, что в графе диагноз будет некоторое однообразие — насморк сорок пятого калибра.
— Такое скопище греха, — спокойно ответил Молине, — каким является Вирджиния-Сити, не для меня. Я — новый военный врач форта Гумбольдт. Мне просто не нашли мундир по мерке.
С откровенным раздражением полковник произнес:
— Я сэкономлю ваше и наше время, шериф. И не потому, что у вас есть право допрашивать этих людей, а так… Из вежливости.
Пирс никак не отреагировал на этот упрек. А Клермонт уже показывал на сидевшего справа от него человека, вид которого был патриархально великолепен — волнистые седые волосы, густые усы и борода создавали впечатление торжественности и достоинства. Этот человек мог спокойно сидеть в сенате Соединенных Штатов, и никому бы не пришло в голову спросить его, по какому праву он там находится.