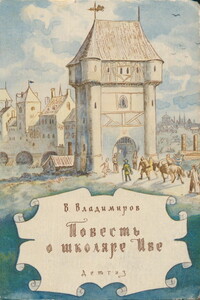Есеней, верхом на коне, с гребня высокого холма в урочище Каршыгалы смотрел как издали неторопливым живым потоком, которому не видно конца, накатываются его табуны. После стравленных подчистую летних пастбищ, теперь, осенью, под копытами коней лежали припорошенные снегом нетронутые травы. Верно, лучше места для зимовки не надо и искать… Есть ложбины, где всегда заблаговременно укроешь лошадей от свирепых здешних буранов. Невдалеке – тоже надежная защита от непогоды – длинными косматыми гривами протянулись леса, еще не совсем потерявшие листву. Ему казалось даже, что отсюда, с холма, слышен успокаивающий сердце хруст сочной травы на крепких лошадиных зубах. За судьбу табунов в эту зиму можно кажется, не опасаться. Недаром же говорится: чтобы сгубить богача, достаточно одного джута, а чтобы сразить батыра – одной пули. А он – и богач, и батыр. И, как бы для подтверждения этих своих мыслей и в ожидании похвалы новым угодьям, он повернулся в седле к спутникам.
С ним на холме было еще четверо.
Одного из них звали, по происхождению недавнего предка, Туркмен-Мусрепом, он был самым близким соратником Есенея. Второй – тоже Мусреп по имени, и к его имени привычно прибавлялось – охотник, он происходил из рода алдай. Неподвижно сидел в седле молчаливый Бекентай-батыр. А четвертым с ними был Кенжетай – младший брат Туркмен-Мусрепа, постоянный коновод у Есенея.
Они были очень разные – два Мусрепа. Туркмен-Мусреп обладал тонким слухом, и сыбызгы – свирель из степного курая – оживала, когда он подносил ее к губам. Он и сам сочинил несколько кюев,[1] которые услаждали слушателей во многих аулах. Под ним всегда ходил отборный конь. Туркмен-Мусреп питал пристрастие к щегольской одежде и вел легкую жизнь джигита, лишенного семейных забот, хоть в его холеных усах и бороде можно было, присмотревшись, заметить несколько – пока всего несколько – седых волосков.
О страсти его тезки лучше всего говорило прозвище – охотник. Его просто нельзя было представить в другом виде – на правой руке нахохлившийся черный беркут в колпачке, по кличке «Гроза лис», за спиной – длинноствольная берданка на сошках. Намолчавшись в одиночестве на охоте, этот Мусреп любил поговорить, но красноречием не отличался.
Эти места показал Есенею именно он, и сейчас, поймав его взгляд, постарался напомнить о своей заслуге:
– О, ага-султан! Что я говорил? Теперь и сам видишь… Для твоих лошадей сам аллах создал эти зимние пастбища! Пока что Каршыгалы никому не принадлежит. Один раз перезимуешь, и его назовут урочищем ага-султана, и оно достанется в наследство детям и внукам твоим!
Есеней молча смотрел на него. Не только красноречием, но и сообразительностью и чуткостью Мусреп-охотник тоже не отличается… Не так уж и много сказал слов, а дважды больно задел Есенея. Пока что высокое звание, высокий чин ага-султана – это только мечта, которой он добивается много лет, а добьется или нет – неизвестно. «Детям и внукам твоим…» Как это должен воспринимать тот, у кого оба сына умерли в один день, а жена двадцать лет назад перестала рожать… В устах всякого другого это прозвучало бы оскорблением, издевкой! Но такой уж Мусреп-охотник неудачливый льстец, хочется ему во что бы то ни стало угодить.
Прошлой зимой, встретившись на охоте, он подарил Есенею двух красных лис и трех хорьков и с тех пор держит себя несколько вольно. А с минувшего бабьего лета стал вообще неразлучен с Есенеем, натаскивает его молодых легавых арабской породы. Потому-то Есеней и позволял ему иной раз то, чего другому не позволил бы, и сейчас только мотнул головой, словно отмахиваясь от назойливой мухи.
Туркмен-Мусреп, который всегда и все понимал, решил предостеречь Есенея.
– И так видно, с первого взгляда, – сказал он, – что травостой здесь богатый, пастбища берегли, не трогали ни летом, ни осенью… Но где теперь найдешь ничейные земли? Кому-то все это принадлежит…
Мусреп-охотник недовольно перебил его:
– Много ты знаешь! Это самая ничейная из всех ничейных земель! Разве есть в этих краях хоть один уголок, где бы я не побывал? Я по морде, по меху могу определить, какая лиса или какой волк из какого урочища… И сколько их там… Бог свидетель – в Каршыгалы сейчас три тысячи волков, пять тысяч лисиц, двенадцать тысяч хорьков и семь тысяч зайцев!..
Туркмен-Мусреп съязвил:
– Бедные волки, бедные лисы… Они же голодными останутся, раз так мало зайцев… Но, может быть, Мусеке,[2] вы тогда скажете нам, сколько здесь белых и сколько черных куропаток?
– Верно, – поддержал шутку Есеней. – Если тут столько голодных волков, то они за зиму сожрут все мои табуны, и я останусь и пешим, и голодным…
Время шло к вечеру, и сперва небо, затянутое темными тяжелыми тучами, просеивало мелкую снежную крупу, а потом повалили тяжелые хлопья.
Кенжетай тронул брата за рукав и кивнул в сторону леса. Туркмен-Мусреп тоже всмотрелся и обратился к Есенею:
– Мне кажется, мы здесь не одни… С опушки тянется дым костров… А вон и всадники!
К ним от леса направлялись трое. Один – впереди, его конь шел иноходью. Джигит, подъехав почти вплотную, сдержал коня и, ничуть не смущаясь, воскликнул;