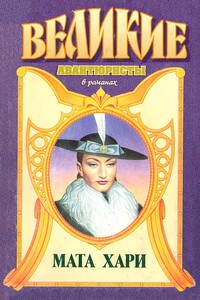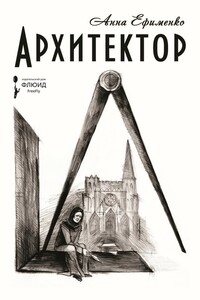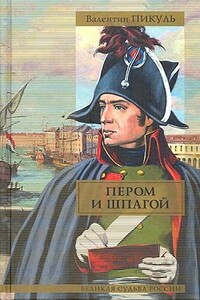1
Мы тронулись в путь — проводить отца на станцию. Нас четверо: мама с грудным малышом на руках, папа и я. На дворе пасмурный осенний день, синие, поросшие густым ельником горы затянуло холодной мглой, и, если б не крикливое воронье над головой, могло показаться, что вся долина меж гор притихла, с любопытством наблюдая за нашим необычным путешествием. Под ногами шуршат мелкие, отшлифованные на дне реки плоские камни. Мы идем тем самым имперским трактом, о котором здешние старожилы говорят, будто он начинается далеко-далеко за горами, бежит вдоль нашего села и исчезает в краях, где заходит солнце. Через три километра, перейдя каменистую речку, на окраине города отец сядет в поезд и поедет в те далекие страны, откуда бедные люди возвращаются богатыми. Я завидую отцу и не могу понять маму, у которой на щеках не высыхают следы от слез… Зато отец держится молодцом, ничуть не показывая, что ему жаль разлучаться с нами. Пока не вышли со двора, он говорил с мамой, давал ей разные советы: какое поле чем засеять, как ухаживать за землей, за конем, — и только как вышли со двора, сразу сделался молчалив, верно думал, как бы ему поскорее выбраться из этого тесного гористого края, где нет вдоволь ни земли, ни хорошего заработка. В правой руке у него черный, недавно купленный чемодан, широкой ладонью левой он крепко обхватил мою маленькую руку. Время от времени он выпускал ее и ощупывал кончиками пальцев свою грудь, там, должно быть под сорочкой, у него висел на голом теле мешочек с землей.
Я кое-что прознал об этом таинственном мешочке. Меня дома, очевидно, считали за маленького, ничего не смыслящего в делах взрослых, не таились от меня и, собирая отца в дорогу, делали это, словно у меня ни ушей, ни глаз не было. Поначалу, когда мама, сшив из черной материи мешочек, стала примерять на отцовой шее шнурок, я подумал, что это мастерится кошелечек для долларов (пожалел только, что уж очень мал), когда же она всыпала туда земли, я от изумления воскликнул:
— А разве в Америке своей земли не хватает?
— Все будешь знать, — ответила мама, — скоро состаришься.
Я не обиделся, потому что привык уже получать от старших насмешки в ответ на иные мои нелепые, по-ихнему, вопросы. Когда я поинтересовался, почему наша каменистая дорога называется имперской, ведь император не возил для нее ни земли, ни камня, так отец, насупив брови, погрозил мне пальцем:
— Берегись жандармов, хлопец. Слышишь? Вот как скуют тебе руки цепями — живо перестанешь умничать да лопотать всякую чушь насчет имперского тракта.
Про эту тайну с мешочком я никогда и не дознался толком.
Пока был маленький, мама всячески отмахивалась от моих вопросов, просила не надоедать ей, а как подрос — эта подробность из моего детства забылась. Теперь, через много лет, вспоминая тот пасмурный день, воссоздавая в памяти полное скорби, черное от предстоящей разлуки лицо матери, я склонен думать, что мешочек с родною землей был дан отцу на счастье и должен был послужить ему чудесным талисманом. Не могли же мои родители иметь другое на уме: погибнет, дескать, Иван на далекой чужбине, сложит голову под обвалом в глубокой шахте, так легче ему будет там почивать, когда на его раздавленной груди окажется горстка родной земли. Мой отец не мог с такой мыслью покидать свой дом, наоборот, он ехал с надеждой если не разбогатеть, то хоть заработать что-то и вернуться домой с несколькими сотнями долларов.
«Не суши себе, сын, напрасно головы, — отзывается из далекого прошлого мамин голос. — Комочек земли я дала твоему отцу, чтобы в чужих краях он нашел дорогу назад, к нам, к родному дому, да чтобы всегда напоминала ему, что на двух моргах[1] каменистой земли нам тут не прожить…»
В детстве я не мог этого знать, понял все только сейчас, уже на склоне лет, когда душа, обогащенная опытом, научилась, преодолевая десятилетия, вести тихую беседу с матерью… А в тот пасмурный осенний день я завидовал отцу, что ему суждено было судьбой увидеть чужие края, ехать поездом, плыть пароходом, — мне даже во сне это не могло присниться.
Мои размышления над тайной черного мешочка с землей внезапно оборвались: я увидел своих друзей — Сергея и Владека, они выскочили со двора и, застыв на мостках через шумливый поток, разинув от любопытства рты, провожали нас глазами.
Сергей Гнездур и Владек Гжебень — мои товарищи. Их отцы не собирались в Америку. Сергеев отец имел дома столярный верстак и мастерил из дерева все, что людям пожелается, а отец Владека, хоть у него и не было своего верстака, зато он каждое утро ездил на ровере[2] на Саноцкую вагонную фабрику и, как похвалялся Владек, мог выточить из железа самую тонюсенькую иголочку.
Был у меня еще третий товарищ, Иван Суханя, самый бедный из всех нас. У его отца не было ни земли, ни верстака, — поехать же в Америку ему не разрешили почему-то доктора. Мой папа говорил, что старый Суханя смолоду, еще когда батрачил у помещика Новака, растратил силы, а слабых да больных Америка принимать не желает.
Сухани сейчас не было на мостках, и он не мог видеть, как красиво я одет, и не слышал, до чего же весело поцокивают подковками мои новые башмаки.