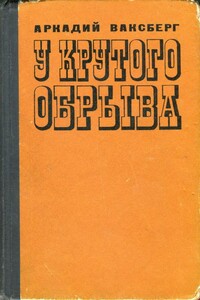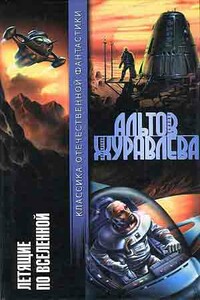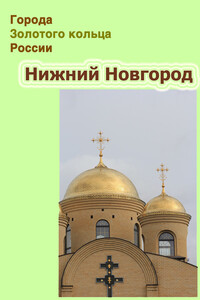Все началось с письма. Недоброго, нехорошего. Слишком явной была попытка выгородить себя, свалив личную вину на «объективные условия» и на ни в чем не повинных людей. Говоря по правде, отвечать на такие письма не хочется: воинствующая несправедливость и отсутствие даже тени раскаяния за содеянное зло не очень-то располагают к философским спорам на бумаге.
Но было в этом письме что-то такое, что вызывало желание постараться помочь автору увидеть свою ошибку.
И я ответил.
Так завязалась наша переписка, которой вот уже четыре года. Так прошла передо мной история одной судьбы. История с горьким началом и добрым концом.
Жаль, я не сохранил самое первое письмо Анатолия Б., — видимо, не думал, что за ним последует много других и что все они вместе станут свидетельством душевного возмужания, свидетельством трудного пути к зрелости, бескомпромиссности и правде.
Но я отлично помню его содержание. Помню, что это был крик о помощи, сопровождаемый угрозой расправиться с тем, кто помочь не захочет. Я помогать отказался — да и не смог бы, даже если бы захотел. Но мы не поссорились — подружились.
Его преступление не было каким-то из ряда вон выходящим, но, как и всякое преступление, вызывало презрение и гнев. Оно выглядело омерзительным даже на страницах его письма, хотя Анатолий и постарался представить себя в самом выгодном свете.
Но легко ли это сделать, если, как ни увиливай, какие слова ни ищи, какие доводы ни выдумывай, остается непреложным одно: молодой рабочий со средним образованием, мужчина двадцати четырех лет от роду, поднял руку на девушку. Не то чтобы избил ее, но несколько раз ударил при всех, в заводской столовой во время обеденного перерыва. Девушка разрыдалась — не от боли, от унижения. Тем более что все знали: это жених ее, ну а если и не жених, то по крайней мере тот, с кем она дружит. Не случайный, значит, человек, а друг. «Рыцарь»… Теперь он ударил ее, крикнул злые, обидные слова и, когда его схватили, стал вырываться, матерясь, и все кричал, припечатывая ей позорные, оскорбительные клички.
Его судили как хулигана и дали три года. «Дело не в сроке, несправедливость возмущает», — написал он мне, и эти слова было неловко, стыдно и противно читать.
«Несправедливость?! — ответил я ему. — Тогда что же Вы называете справедливостью? Право безнаказанно драться? Право бить и оскорблять женщину? Я не знаю, чем провинилась перед Вами та, на которую Вы подняли руку, заслуживает она унижения или нет. Но одно я знаю твердо: ударивший женщину недостоин называться мужчиной…»
Я думал, он мне не ответит. Или ответит слезливой бранью. Письмо пришло недели через две:
«…Зачем Вы отчитали меня, не разобравшись? Я открыл Вам душу, а Вы надо мной подсмеялись. Вот Вы пишете: «Не знаю, чем провинилась, заслуживает уважения или нет». А раз не знаете, зачем судите? В том-то и дело, что провинилась, обманула, а я ей так верил! Я назначил Вальке свидание, ждал ее, она не пришла. Я побежал к ней домой, говорят — она у сестры. Побежал к сестре — нет! А потом ребята мне сказали, что Валька была в одной компании, с совсем чужими ребятами. Разве так поступают настоящие советские девушки, да к тому же еще комсомолки?
…За что три года?! Ведь это значит поощрять разврат! Я сижу, а Валька ходит с гордо поднятой головой. Вот и вся «справедливость». Но главное, что меня возмущает, это как отнеслись ко всему на заводе. Говорят разные слова про мораль, человек человеку друг и брат. Когда же доходит до дела, своему лучшему рабочему требуют тюрьмы, а распущенную девчонку объявляют ангелочком, с чепчиком на лбу… (Так и написал: с чепчиком на лбу. Ума не приложу, что это значит?! — А. В.) Мне три года отсидеть — раз плюнуть, но жаль терять веру в людей».
Тоже, между прочим, песня не новая. Человек совершил преступление, его наказали — и вот уж он сразу утратил веру в людей!.. А чего же он ждал от людей-то? На что рассчитывал? Что «войдут в положение», «учтут», простят? Что все обойдется? Тогда он, конечно, сохранил бы свою «веру», да вот только сохранит ли ее в этом случае жертва рукоприкладства? И те самые люди, верой в которых клянется автор письма, сохранят ли они уважение к закону и справедливости, если преступление, совершенное на их глазах, останется безнаказанным?
Об этом я и написал Анатолию.
Наверно, бессмысленно, бессмысленно и жестоко требовать от того, кто наказан, холодной объективности по отношению к самому себе. Вряд ли наше мнение о преступнике и совершенном им поступке может полностью соответствовать его собственному мнению. Было бы странно, если бы он, находясь в заключении, не жалел себя, не оплакивал своей судьбы, если бы не старался найти оправдания, пусть наивного и нелепого, тому, что содеял. Это стремление самооправдаться психологически вполне понятно: куда как «слаще» чувствовать себя непонятым, обиженным, осужденным чрезмерно сурово… Да и не только в эмоциях дело: за попыткой самооправдаться стоит вполне конкретная цель. В природе человека — стремиться облегчить свою участь. Но кто же облегчит ее, если ты сам будешь утверждать, что наказан справедливо?!