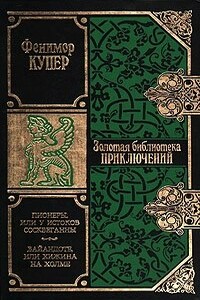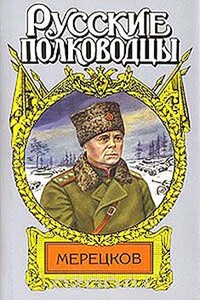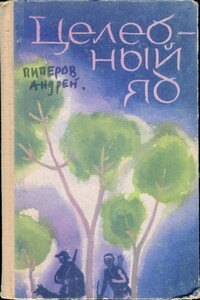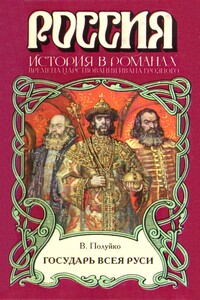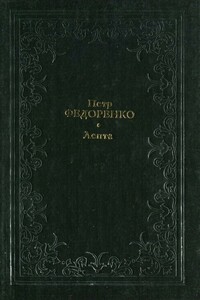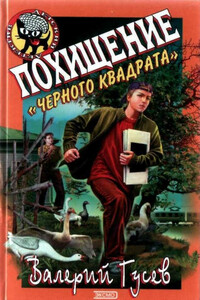За окнами — легкий день, в царском кружале душно. Гудят сонные мухи. Народа не густо: дырявы нынче карманы…
За отдельным столом в самом дальнем и темном углу, не притрагиваясь к жбану с пенной брагой, сидели два известных московских стрельца. Парни молодые: бороды у них маленькие, шелковистые, усы еще не щетинились. Подстриженные под горшок волосы на головах мягкие, хоть и неухоженные. Кафтаны на молодцах порваны, в заплатах, колпаки засалены, видно, служат они хозяевам утиральниками. Зато завески-пищали, скромно стоящие в углу со своими сошниками, начищены, украшены нарезками, на берендейках-ремнях — серебряные набивки, такие же набивки и на кровельцах. Ножны кривых сабель искусно разделаны, а на ядрах кистеней такие замысловатые узоры, что этим страшным оружием можно залюбоваться. Видно, лихие эти ребята немало гордились своим оружием, берегли его и теперь постоянно на него с любовью взглядывали.
На стрельцов, на их пищали тревожно-зорко посматривал целовальник из-за стойки: что-то нынче сотворят эти двое, не раз уже батогами простроченные в стрелецком приказе за разбойные дела, за всяческое поношение приставов и подъячих. А заводила вот тот, сухой да чернявый, дьявол нерусский! Васька Кочет. Зол, увертлив и ловок. А уж хите-е-ер!.. Другой-то — увалень Середа Телепень, забывший свое имя настоящее — Федька. Типичный русак, русак к тому же московский: плотный, коренастый, в грудь хоть бревном бей, в плечах косая сажень, руки длинные, оглоблю сломают. Лицо глупое, добродушное, ленивое, в голубых глазах ни искорки, зато черные глаза Кочета поблескивали горячо.
Целовальник плюнул в сердцах: чего они то и дело перешептываются между собой и пальцем не притрагиваются к жбану с любимой хмельной брагой?
— Чего это они? — наконец не вытерпев, спросил он у подручного. — Ежели так-то гостить у нас будут, так и оклада не внесешь, идти на правеж придется…
— Вишь, ждут! — отозвался верткий подручный.
— Кого еще?
— А тут ополдень Анкудин Потапыч забегал. Боярина Каренина старший холоп и его сыновей дядька-пестун…
— Так что ж ему от этих-то, — слегка кивнул целовальник в сторону стрельцов, — понадобилось?
— Не знаю. Только больно Анкудин Потапыч наказывал, как придут Кочет да Телепень, задержать их до него, вино и угощенье им выставить да последить притом, чтобы в порядке были…
— Ишь, какие господа важные!
В кружало, слегка хлопнув дверью, шустро вошел небогато одетый худощавый старик. Мал ростом, глазки умные и живые. Старик с порога заметил стрельцов, приветливо улыбнулся им. Потом, скинув колпак, истово помолился на прикрытую икону, поклонился целовальнику (как-то особенно низко, словно заискивая пред ним) и уже после этого бочком продвинулся к поднявшимся парням. Присаживаясь, заговорил певуче:
— Здоровы будьте, удальцы-молодцы! Эй, Евстигнеич! — захлопал он в ладоши. — Дайка-сь сюда что там у тебя покрепче есть… Вот и я, старик, с молодежью хлебну малую толику, вспомню годы, когда сам таким же был.
— Да ты, Анкудин Потапыч, — перебил его Кочет, — сперва про дело скажи, а выпить-то мы успеем, за нами не гонится никто…
— У-у, какой горячий! — засмеялся старик. — Всегда ли ты так до дела-то охоч?
— Да уж там, когда охоч, когда нет, про то я сам ведаю, — нахмурился Кочет, — а ты зубов-то не заговаривай. Выкладывай, на что мы тебе понадобились. Да не ври смотри! Все равно не поверим!
— Уж и «не ври»! — притворно обиделся старик. — Врать я и не собирался!
— Постой, — опять перебил его Кочет, — я к тому тебе такое слово сказал, чтобы ты вихляться не вздумал. Если нуждаешься в услуге нашей, так между нами все начистоту должно быть. Заранее тебе, Потапыч, говорю: на подвох какой-либо там мы не пойдем, на убийство тоже.
— Полно, полно ты, полно! — так и замахал на него руками Потапыч. — Что ты, Господь с тобою! Разве мы с боярином решимся на такое дело?
— Ну, помалкивай! — оборвал его Кочет. — Знаем мы, на что ваша боярская братия готова…
— Молчи! — даже в ужас пришел Потапыч. — Негоже мне такие речи слушать.
— Так вот ты и не слушай, а говори про дело-то.
Потапыч помялся, хлебнул из ковша и, собравшись с духом, начал:
— Вот оно что, сердешные: не об убийстве моя речь пойдет. Богом клянусь, ничего такого ни у боярина, ни у меня и в голове не было.
— Так чего же ты мямлишь-то?
— Да дело-то совсем особенное, семейное, можно сказать, дело; вот оттого и язык прилипает к гортани… Радости никакой говорить нет, а плакать хочется… А тут еще ты цыкаешь…
— Семейное дело? Слышь, Телепень? — ткнул Кочет в бок приятеля.
— Ну, слышу, — лениво отозвался тот, потягивая из ковша брагу, — мне-то что? Я-то ведь не боярин… Вот когда их бить позовут, так со всем моим удовольствием.
Кочет махнул рукой и, повернувшись к Потапычу, сказал:
— Семейное, говоришь, дело? Ну, докладывай, в чем оно у вас будет.
— А вот в чем… Ведомо вам, поди, что боярин-то мой Родион Лукич на Москве наезжий… Еще при Тишайшем царе Алексее Михайловиче в молодости услан он был в украинные города на цареву службу и правил ту службу не за страх, а за совесть, сил и живота своего не щадя. А потом, как помер блаженной памяти Тишайший да пошли при его сынке новые порядки, и не понадобилась Москве боярина моего верная служба. Известное дело, разобиделся он и отъехал в свою вотчину. Таить не буду, отъезжая, думал, что вспомнят его да позовут. Ан нет! Недаром говорится: «С глаз долой, из сердца вон». Так и с моим боярином вышло. Жил он, жил, видит, никто не зовет, а тут сынки у него поднялись — Михайло да Павел Родионычи. Я их пестовал и на коне ездить учил, пищаль да саблю в руках держать приучил, да вышла беда в том, что не один я около них был…